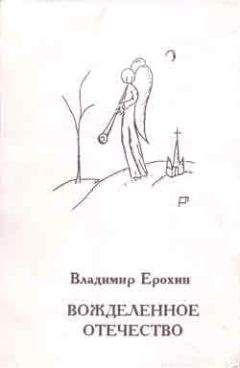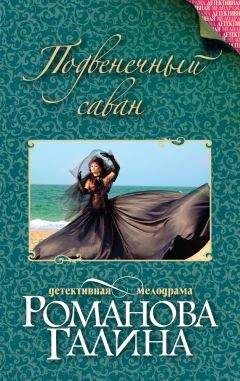Мы никогда не жили так весело, как при Хрущёве. Он был гениальный и простодушный авантюрист, в стиле героев О'Генри.
Казалось, Хрущёв и сам радуется изобилию анекдотов о нем. Он любил это слово — изобилие.
Коммунизм был его светлой и простодушной мечтой, представляясь в виде большого универсального магазина в Нью-Йорке, — только расплачиваться по выходе не надо.
Хрущёв считал, что у нас все не хуже, чем в США, — и быки, и самолёты, а метро даже лучше, да и балет тоже. Балет он любил смотреть из первого ряда партера, откуда все хорошо видно, — не то что Сталин, сычом глядевший из правительственной ложи в морской бинокль.
...Диск победы. В ранце каждого американского солдата лежала эта пластинка, выпущенная в 1944 году, с записью буги-вуги. Джаз, наиболее свободолюбивая музыка, являет собой яркое противостояние авторитарному сознанию. Они отстаивали демократию. К тому же это искусство негров, а янки воевали против геноцида.
Хрущёв говорил: пусть наши быки с вашими померяются.
Звёздные мальчики мечтали со звёздным билетом улететь к далёким звёздам. А колхозники — на фанерном аэроплане — к едене матери.
Мне приснилось, что воскрес мой отец. Он шёл по Тамбову, по Интернациональной улице, довольно молодой, ироничный, в соломенной шляпе, в костюме и рубашке без галстука, с отросшей чёрной щетиной, и как бы говорил мне:
— Ну, где твой Бог? Я Его так и не видал...
А воскрес он так. Женщина, старая коммунистка, подошла к его гробу и довольно грубо сказала:
— Пётр, черт, вставай!
И он встал.
Политики всегда были смехотворными. У нас в доме, в Котовске, жил столяр, которого звали Чемберленом — непонятно, за что.
Степанова, жившего в Тамбове в большом жёлтом доме на углу Пролетарской и Интернациональной, называли Шопеном, хотя играл он не на фортепиано, а на скрипке.
Если быть искренним и бесстрашным, тогда получится хороший автопортрет.
Контролёрша легко и уверенно, словно тачку катила перед собой, вела через вагоны "зайца".
— Смотрю, она книжку читает, — повествовал в соседнем ряду бойкий среднерусский говорок. — Глянул — книжка интересная, про любовь: она любовь ищет...
Напротив шёл диалог в стиле Проппа:
— "Накинула дочка сеть... "
— Платье женщины — всегда сеть.
Рядом кто-то оглушительно храпел.
На сумку был наклеен портрет Аллы Пугачёвой и ещё какой-то бабы с гладкой причёской, и мне это было смешно, потому что с Алкой Пугачёвой я играл в одном оркестре, в самодеятельности факультета журналистики, и никак не думал, что она станет великой певицей. Она пела на репетиции вместе с красавцем Любомиром Коларовым импровизированный джазовый вокализ, в паузах повизгивая:
— Ах, как это сексуально!
Оркестром руководил Жора Газарян, женившийся на дочери вождя финских коммунистов. Джинсы с отворотами, в которых он, заспанный и небритый, выходил в холл, были непонятны мне, тамбовскому провинциалу, и казались чем-то неприличным. Жора только что вернулся с юбилея Еревана — гигантской, как тогда говорили, всеармянской пьянки — и всем повторял:
— На десять лет старше Рима!
В джинсах было что-то невероятно, неприкрыто, безнравственно мужское — в этой строчке и молнии, заплатках, оттопыренных карманах...
Другая Алла, потрясавшая воображение мощной грудью, стала выдающейся поэтессой. Помню, как она, треща пуговицами лифчика и поводя воловьими глазами, жарила картошку и варила кофе в два часа ночи (кухни тогда ещё не запирали) на пятнадцатом этаже высотного здании МГУ, в то время как её подруга — Нина? Лена? — забыл, как её звали, — с риском для потомства сидя на каменном подоконнике, курила и играла на гитаре. Глаза её были подведены всегда, даже, возможно, раз и навсегда — так это было, крепко сделано.
Ещё у нас была Лина, феноменально некрасивая и компенсировавшая это мощным умом и деятельной страстью к творческой жизни.
— Заявление в партию надо писать синими чернилами, — сказал Вадим Дундадзе. — Это партийный цвет.
5 декабря 1966 года — через год после нашумевшего митинга диссидентов — на Пушкинской площади собрались пять тысяч стукачей и целый день проверяли друг у друга документы.
— Как колчушкой ни тряси, последние капли — в штаны, — говаривал Славик Брусилов, и это была сущая правда (хотя и прискорбная, конечно).
Ещё они с его другом Толиком Бормотовым выясняли вопрос, почему член всегда свисает в левую штанину. По теории Толи Бормотова, предки человека ходили без штанов, и, когда они гнались за мамонтом, то в правой руке сжимали дротик, потрясая им (откуда и произошла фамилия Шекспира — Потрясатель Копья), и чтобы член, болтаясь, не путался под ногами, его держали при этом в левой руке. Позднее ориентированность члена влево стала наследственной.
Гера Шуцман любил материться в сортире, когда Миша Смоляник оставался с бабой наедине в своей комнате. Герин голос гулко бился об унитаз, придавая любви студентов особую пикантность.
Когда Миша наутро укорял его, Гера всякий раз делал большие глаза и говорил:
— Откуда я знал, старик? Надо было предупреждать. Ты в следующий раз повесь на дверь записку: "Я с бабой"— и все.
На дверь туалета Гера привинтил упёртую им в бытность проводником вагонную табличку: "Во время стоянки пользоваться туалетом воспрещается", — содержавшую, в контексте мужского студенческого общежития, всем понятный намёк на эрекцию.
Гера был членом КПСС. Студент-старшекурсник объяснял это так:
— Фашистской партии у нас нет — вот он и вступил в коммунистическую.
О Шуцмане говорили, что он — единственный в мире еврей, напрочь лишённый интеллекта. Бывший матрос, боксёр, редкостный грубиян, он был широкогруд и широкоплеч, высок ростом, густо покрыт орангутанговой шерстью.
— Все: решил я не пить, не курить и с дамами дел больше не иметь, — заявил, проходя с чайником по коридору, заросший щетиной Федя Карпов.
— Нельзя, — остерёг Гера Шуцман. — Дамы узнают — морду набьют.
Однажды студентка Валя долго стучалась в запертую дверь мужского блока — хотела попросить конспект. Наконец дверь отворилась и на пороге предстал Шуцман, совершенно голый, окутанный клубами пара. Нимало не смутившись, он осведомился, что ей нужно, и, как истинный джентльмен, предложил войти.
У Геры было любимое выражение:
— Вот такой женщине я бы отдался.
На четвёртом курсе он сдружился с советским корейцем Серёжей Ке, который тоже был боксёром. Они развлекались тем, что в два часа ночи пели дуэтом, в сопровождении двух гитар, распахнув настежь окна, "Тройку", каждый в своей комнате: один на двенадцатом этаже, а другой — на четырнадцатом.