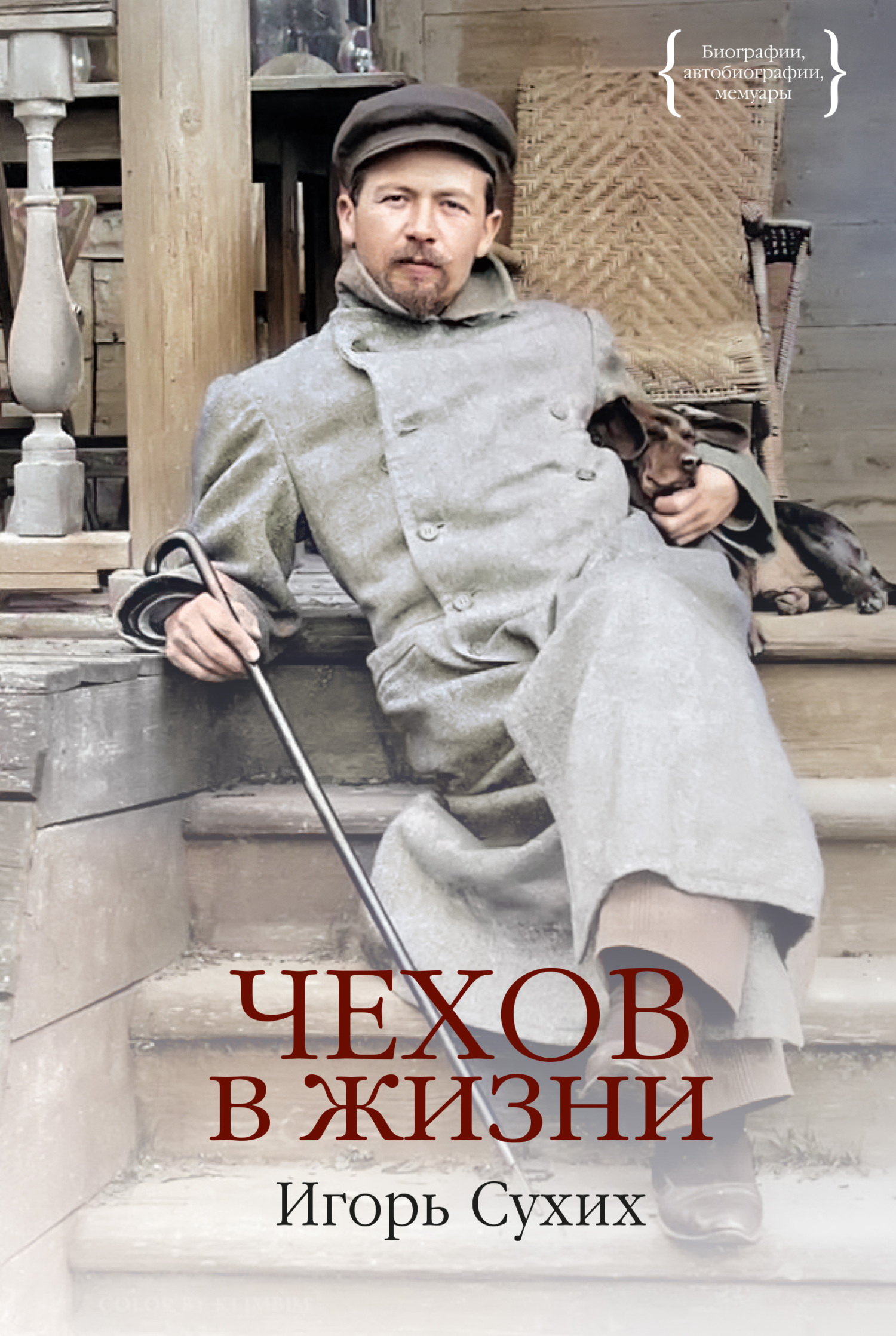М. К. Куприной-Иорданской: «Антон Павлович громко говорил: „Я против посвящения чего бы то ни было живым людям. В молодости я сам этим грешил, о чем теперь жалею“») [134].
«Многоуважаемый Петр Ильич! Прошу Вашего разрешения посвятить Вам эту книгу. А. Чехов – П. Чайковскому» (вольная цитата из письма композитору 12 октября 1889 года с просьбой посвятить ему книжку «Хмурые люди» – П3, 259).
В исходном контексте суждения не противоречат, а скорее дополняют друг друга: в молодости посвящал (а письмо Чайковскому – как раз молодость) – теперь против посвящений (это уже ялтинский период, причем нужно учитывать, что воспоминания Куприной-Иорданской – не аутентичный текст). Но, вынимая из контекста, сталкивая эти суждения, причем без всякой датировки, автор добивается нужного эффекта: ловит Чехова на слове, на неразрешимом противоречии.
В других случаях за чеховские выдаются явно мистифицированные цитаты, причем довольно хулиганские. «Манера повествования в „Войне и мире“ похожа на работу унитаза – тихо, ровно журчат главы, где речь идет о Пьере, Наташе, князе Андрее; как вдруг грохот, водопад: началось авторское отступление. А. Чехов» (71).
Через эпиграф-апокриф происходит включение Чехова в хронотоп «Эфиопа»: «Ваш роман непременно высылайте бандеролью в Серпухов. Не пропадет – мне перешлют в Офир. А. Чехов» (глава 6 третьей части «Таинственный остров (продолжение)», 173).
Оно поддерживается авторским рассуждением в самом начале романа. «В „Эфиопе“ не упоминается ни одной конкретной даты, кроме одного конкретного дня, месяца и года – 2 июля 1904 года. Именно в этот день наступил кризис в болезни Чехова и, как удалось выяснить исследователям Акимушкину и Нуразбекову, произошел пространственно-временной сдвиг, который привел к встрече на Графской пристани генерала Врангеля и поэта Окуджавы, заставил психоаналитика Фрейда совершить путешествие в страну Офир, а начинающего писателя Хемингуэя выйти на боксерский ринг против графа Толстого, превратил поэта Гумилева в орнитолога Шкфорцопфа и привел его к открытию лунного купидона и симбиозной теории возникновения человека, забросил „Супер-Секстиум“ с лазерным принтером в дореволюционную Одессу, а велосипедиста Гайдамаку – во времена Ильи Муромца и т. д. Акимушкин и Нуразбеков впервые наблюдали явления генетических сдвигов пространства-времени, – более того, непосредственно участвовали в них» (31).
А во второй книге романа, в «Главе между двенадцатой и четырнадцатой» «Укушенные купидоном» (363–365) появляется уже сюжетный эпизод. Еще один из героев романа ОʼПавло, монах в черной сутане, полюбивший путешествовать по воздуху, однажды летит «беспересадочно» через море в Рим, делает остановку на Капри и «знакомится со своим любимым писателем Чеховым, которого в прямом смысле едва ли не боготворит, принимая его чуть ли не за Иисуса Христа».
Дальше следует переадресованная автору цитата-описание черного монаха из одноименной повести, преходящая в апокрифический диалог: «Чехов поражен: „Монах в черной сутане, с седою головой и черными бровями, скрестив руки на груди, пронесся мимо меня. Босые ноги его не касались земли. Потом он оглянулся, кивнул мне головой и улыбнулся ласково и в то же время лукаво, с выражением себе на уме. «Ты призрак, мираж, галлюцинация, – проговорил я. – Ты не существуешь!» Он ответил: «Думайте как хотите. Я продукт вашего возбужденного воображения. Я существую в вашем воображении, а воображение ваше есть часть природы, значит я существую и в природе. Как вы чувствуете себя, Антон Павлович?» – «Здесь скучно, – ответил я. – Без писем можно повеситься, а потом научиться пить плохое каприйское вино и сойтись с некрасивой и глупой женщиной»“. (Более подробно встречи Чехова с ОʼПавлом описаны Сомерсетом Моэмом в эссе „Второе июля четвертого года“ [см. ЭПИЛОГ])».
Посмотрев в «Эпилог», мы обнаруживаем там разделенное на несколько глав (582–588, 591–599, 602–610, 613–624) анонсированное эссе, у которого есть своя история.
4. «Пишу, пишу. Небольшую повестушку написал о Чехове (!), о том, как Чехов не умер в 1904 году, а прожил до 1944-го. То ли повестушка, то ли „фантастическо-литературоведческая статья“. И неплохо вроде, нескучно. А куда пристроить, не знаю, как всегда», – сообщил Штерн коллеге и другу (Г. Прашкевичу, 5 апреля 1994 года).
Через три дня текст был послан безусловному авторитету, Б. Стругацкому, с сопроводительным письмом-просьбой: «Вот, отправляю две небольшие повестушки (или фантастические эссе) в духе альтернативной истории. Хоть я далеко не пацан уже, но как-то по привычке посылаю Вам на прочтение и оценку. <…> А эссе про Чехова от имени Моэма, кажется, получилось. Во всяком случае, писалось не мучительно больно и с удовольствием. В этом году в июле 90 лет со дня смерти Чехова – куда бы пристроить эту „статью“? Может быть, „Звезда“ заинтересуется?» (8 апреля 1994 года).
«Звезда» заинтересовалась и даже анонсировала публикацию, но в итоге в седьмом номере 1994 года вместо девяностолетия со дня смерти Чехова отметила двухсотлетие со дня рождения Чаадаева.
Повестушка-эссе вышла отдельной брошюрой, даже библиографическое описание которой выглядит как поэма: Сомерсет Моэм. Второе июля четвертого года: Новейшие материалы к биографии Антона П. Чехова. Пособие для англичан, изучающих русский язык, и для русских, не изучавших русскую литературу / Новороссийский государственный университет им. Н. И. Костомарова. Отделение русской словесности. – [Киев]: ВИАН, 1994. 32 с. 3 тыс. экз. ISBN 5-7998-0045-9 [(о); К 200-летию Одессы; Пер. с англ. Б. Штерна; Гл. ред. Л. Ткачук; Ред. И. Кручик; При участии ЛИА «Одессей» (Одесса); © Сомерсет Моэм, 1966; Борис Штерн, перевод, 1994].
Под именем Моэма (намного чаще, чем под именем Штерна) текст до сих пор бродит по Сети, обсуждается в блогах и долгое время был доступен для скачивания на сайте ялтинской городской библиотеки, города Чехова. Как новый биографический источник очерк «Моэма» попал даже в школьное пособие по литературе [135].
Мистификация, таким образом, блестяще удалась.
Через несколько лет появилось второе книжное издание, уже не в о<бложке>, а в переплете – и с указанием имени подлинного автора [136].
Рецензенты обсуждают целесообразность и удачность последующего включения повести-эссе в роман. С текстологической точки зрения, однако, все очевидно: последней редакцией «Второго июля» стал эпилог «Эфиопа». Он расширен, структурно подготовлен, несколькими стежками (см. выше) пришит к основному тексту книги (что, как видим, не исключает и автономного существования первоначальной версии).
Пушкинскую фантасмагорию Бориса Штерна замыкает чеховская мифологизация.
5. Штерн совершенно по-особому относился к Чехову.
В автобиографии ответ на вопрос о любимом писателе лаконичен: «Любимый писатель: Антон Павлович Чехов». А ответ на следующий вопрос сопровождается контрвопросом: «Любимая книга: странно, любимый писатель – Чехов, а любимая книга – „Три мушкетера“ („Колобок“ не в счет), притом что Дюма-отец не самый сильный писатель. Почему так?»
В письме Б. Стругацкому (25 ноября 1986 года) в связи с работой над очередным замыслом