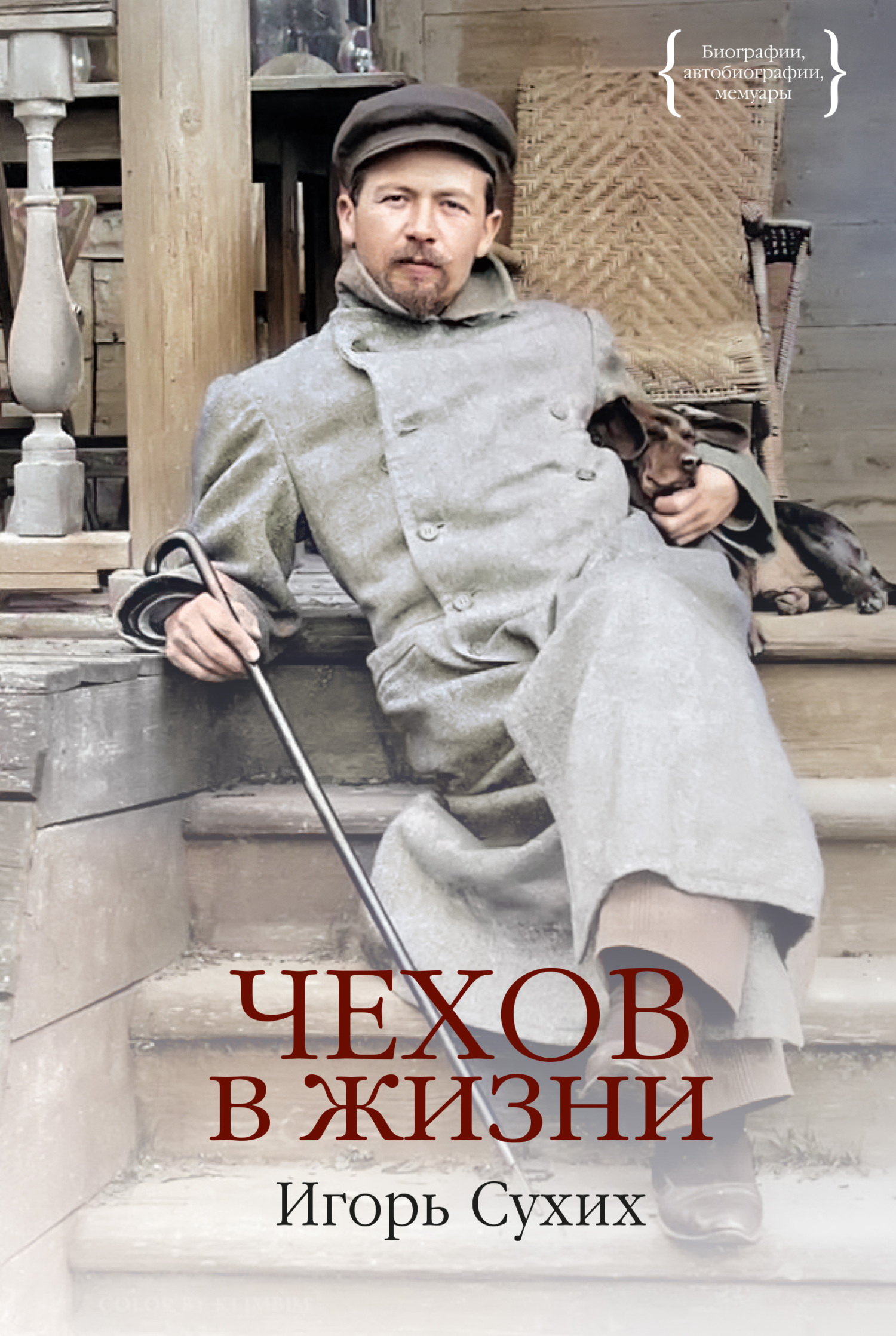появляется признание: «Удивительные дела иногда происходят в писательстве! Я тут от первого лица пишу старого академика, который перед смертью одержим всякими бесами и маниями – и все время влетаю в тон чеховской „Скучной истории“, которую ужасно люблю, – и все время уничтожаю „чеховские“ моменты (когда они проявляются напрямую)…»
Через два года в письме тому же адресату возможная поездка на Сахалин комментируется так: «Редкий шанс – хоть чуть-чуть, но по стопам Чехова» (15 сентября 1988 года).
Выстраивая типологию литературных форм, Штерн в качестве универсальной модели называет «Каштанку» (о чем – чуть далее).
При всей рискованности конкретных деталей (особенно раздразнили профессиональных читателей реплика Льва Толстого при посещении садово-кудринского дома «Ах, так у вас там девочки?!» и объявление на воротах чеховской дачи «Осторожно, злые старушки!»), впрочем, весьма мягких на фоне предшествующего текста, чеховский фрагмент строится в конечном счете как парадоксальное объяснение в любви, пропущенное сквозь жанровую призму альтернативной истории.
Чехов, оказывается, не умирает в Баденвейлере (в этот день в Москве умирает Горький), а, выпив вместо хрестоматийного шампанского спирта, внезапно выздоравливает и проживает еще одну жизнь (которую Штерн сочиняет по канве биографий Горького, Бунина, Солженицына и т. д. – всю фактическую базу этого центона еще предстоит определить).
«„Живем дальше“, – вздохнул Чехов» (603). Он поселяется на Капри (как Горький), еще до мировой войны получает Нобелевскую премию (как много позднее Бунин), после смерти Толстого занимает его место властителя дум и абсолютного нравственного авторитета: «Когда умер Лев Толстой, Чехова никто не короновал, не назначал и не выбирал, но этого и не требовалось, он естественным образом, по праву „наследного принца“ возглавил русскую литературу. <…> Авторитет Чехова был беспрекословен. „Как хорошо, что в русской литературе есть Лев Толстой! – говорил Чехов в молодости. – При нем никакая литературная шваль не смеет поднять голову“. Теперь обязанности Льва Толстого перешли к Чехову, и по авторитету, и по старшинству в свои пятьдесят лет Чехов был первым. Генетическая наследственная связь Чехова с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым ни у кого не вызывала сомнений…» (606).
Особо возрастает его роль после революции (в альтернативной штерновской реальности главным вождем в СССР становится Киров). «Большевики ненавидели Чехова, но ничего не могли с ним поделать. Он был очень богатым человеком, самым высокооплачиваемым писателем в мире – его книги пользовались громадным успехом у западной интеллигенции, его почитали как святого, ему платили огромные гонорары. „Фонд Чехова“ составлял полмиллиарда долларов. Он давал большевикам деньги на индустриализацию, электрификацию, здравоохранение, а завещание было составлено так, что в случае смерти Чехова большевики не могли претендовать на эти деньги, теряли все» (617).
Эффектную точку Штерн ставит в финале: «Антон Павлович скончался в Ялте именно в ТОТ день – второго июля, но через сорок лет, вскоре после открытия второго фронта. Он до конца был в ясном житейском сознании, но вряд ли уже отчетливо понимал, что происходит в стране и в мире. И слава Богу <…> Чехова временно похоронили в Ялте. Через полгода Рузвельт, Черчилль и Киров, перед тем как решать на Ялтинской конференции судьбу послевоенного мира, пришли с цветами, постояли у его могилы и проводили на аэродром в последний путь – тело Чехова доставили в Москву на самолете в свинцовом гробу <…> и перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. Еще через три дня был подписан исторический Ялтинский меморандум. Все было ясно. Миссия Чехова была выполнена. Фашизм был раздавлен, а коммунизм решили тихо свернуть. От.
Из Истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы.
А. П. Чехов» (624).
Многоплановое повествование замыкает вариация чеховской шутки из письма к А. А. Киселевой: «Посылаю Вам из глубины Души следующие подарки: <…> 8) Древнюю Историю с Рисунками; из этой Истории видно, что и в древности жили дураки, Ослы и Мерзавцы» (8 января 1890 года; П4, 7).
Многие ли профессионалы сразу вспомнят источник этой фразы?
6. В письме Б. Стругацкому (28 июля 1983 года) Б. Штерн предложил оригинальную вариацию распространенной литературной типологии, взяв в качестве модели-образца, как уже упоминалось, чеховский текст:
«Вся художественная литература делится на два вида произведений: сказка „Колобок“ и рассказ „Каштанка“. Вот два шедевра, и вся остальная проза примыкает к тому или к другому.
„Колобок“ – произведение, где можно ответить „о чем“. Там мысль – хвастаться нехорошо, нарвешься на Лису и будешь съеден. Мысль эта отлично проиллюстрирована. Шедевры в этом виде литературы – вещи Достоевского. (!) В этой шутке много правды. Это вид литературы, где можно довольно точно указать или небольшую мысль (Колобок), или сложную философскую концепцию (Преступление и наказание). Этот вид литературы построен на мысли, и от мысли у читателя возникают чувства. Это отлично.
„Каштанка“ – когда я спрашиваю: а о чем „Каштанка“, то не слышу ответа. А она, в самом деле, ни о чем! Она о собачьей тоске – но ведь это не мысль! Это второй вид литературы – литература чувства. Она бьет на чувство читателя, и тогда он сам начинает думать „а о чем?“. Это Чехов.
„Воскресенье“ относится к „Колобку“, а „Война и мир“ – к „Каштанке“.
Все можно уместить в эту схему, и поэзию тоже. Фантастика чаще принадлежит к виду „Колобок“, она чаще идет от мысли, но в ней встречаются много „Каштанок“.
Пастернак это „Каштанка“, а Маяковский – „Колобок“».
Если вернуть это разграничение автору «Эфиопа», его роман скорее относится к модели «Колобка». Пушкинская фабула строится на одной мысли: гений – уникален, не поддается искусственному воспроизведению, «подлинного Александра Пушкина вывести невозможно».
Чехов появляется в «Эпилоге» для демонстрации другого оттенка этой мысли: гений не может изменить ход истории, вразумить всех дураков, ослов и мерзавцев (революция в России все равно происходит, неизбежной оказывается и мировая война), но он становится лицом и голосом эпохи, уходит, лишь до конца исполнив миссию.
«Что было бы, если бы второго июля четвертого года умер Чехов, а Пешков остался жить? Праздные ли это вопросы? Для атеистического человека ход истории предопределен законами, для человека религиозного – история в руках Божьих. И тот и тот согласны, что влияние человека на историю возможно: верующий – по воле Божьей, атеист – в некоторых конкретных пределах; вот вопрос и тому и тому: может ли человек влиять на Бога? Может ли человек изменять законы природы? Что было бы, если бы человек сделал то, а не это, если бы случилось то, а не это? Русская присказка „Если бы да кабы…“ сама по себе хороша, но любомудрием не отличается. <…>