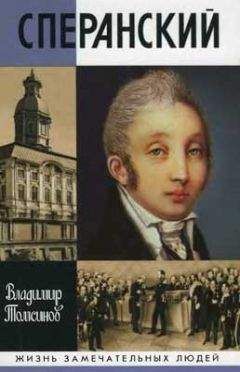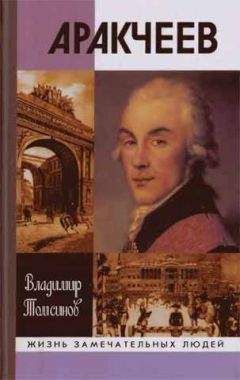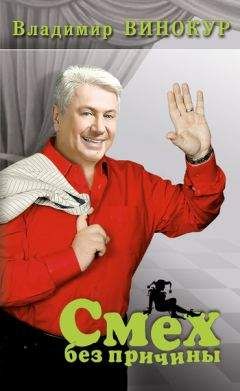С летами неизбежно обесценивается все, что поначалу представляется ценным — будь то богатство, слава иль власть. На что они человеку, близкому к окончательному разрушению? Что может он снискать в них радостного для себя, если не в силах ими воспользоваться? Наслаждение прожитой жизнью — одно по-настоящему доступное и действительное наслаждение для того, кто стоит у порога в царство вечного покоя. А оно настаивается на чистой совести. Имел ли такую совесть Сперанский? В последние годы жизни тема совести явно занимала его мысли. «Совесть, — читаем мы в одной из его философских заметок той поры, — есть преклонность воли, влекущая нас к добру совершенному. Все, что способствует сей наклонности, приносит нам удовольствие, рождает в нас ощущение свободы и достоинства. Все, что ей противно, рождает, напротив, чувство неволи и унижения».
Примирение с высшим обществом, которого он столько искал и в конце концов нашел, дорого обошлось ему. Все во внешней, чиновной его жизни как будто устоялось, все наладилось, но разладилось что-то в жизни внутренней — в жизни души и сердца. Мысль о том, что необходимо жить в согласии с самим собой, что надо добиваться гармонии прежде всего внутри себя, все чаще посещала Сперанского. Как никогда ранее, был он в эту пору религиозен. Многие его философские заметки напоминали скорее молитву и заклинание, нежели плод вольных размышлений: «Кто получил много способностей и сил, тот должен много благодарить Бога, вся жизнь того должна превратиться в один благодарный гимн, а чувства изливаться одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения. Постоянное благодарение прекрасно возвышает душу. Оно вносит в нее мир, стройность и тишину, а сердце не чувствительно растворяет всепрощающей, всеобъемлющей любовью даже к самим врагам. Кто получил много способностей и сил, тому нужно много стараться к приведению всего, что ни есть в нем, в стройность… Но Боже! Как трудно бороться с собой, с непокорными, неудержимыми нашими стремлениями, как слаба не приобретшая крепости наша воля!»
Жизнь Сперанского подходила к концу — наступало время подведения итогов.
Глава тринадцатая. Прости, отечество!
Мы все в дороге и возвращаемся в наше Отечество, кто с котомкою на плечах, кто на резвой четверне, но все войдем в одни ворота…
Михаил Сперанский
1838 год принес Сперанскому небывалую прежде усталость и равнодушие к себе и делам. Михайло Михайлович ощутил вдруг себя глубоким стариком. Окружающие не сразу заметили происшедшую в нем перемену. Внешний облик его не потерял с годами приятности. Высокий ростом и лишь слегка сутуловатый при ходьбе, с большим, обнаженным от волос лбом, с голубыми глазами, излучающими спокойствие и ум, всегда аккуратно, с некоторою даже щеголеватостью одетый, он являл собою воплощение сознающей себя величавости, но не холодной, каковой она часто имеет быть, а той редкой, что испускает мягкость и теплоту. «Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись» — таким видел Сперанского Ф. Ф. Вигель.
Альфред де Кюстин, посетивший Россию в 1839 году, писал, что нигде не видел таких красивых стариков и таких уродливых старух, как в России. Встреча со Сперанским, если б состоялась, еще более укрепила бы французского маркиза в данном мнении.
Со всеми, независимо от звания и должности, был Михайло Михайлович обходителен в обращении, почтителен и ласков. Кое-кому, правда, именно это в нем и не нравилось. Некоторые, расположенные к нему первоначально его ласковостью, впоследствии, когда обнаруживали, что она обща всем, как чаша круговая, охладевали к нему. Но у многих в ту эпоху, когда принято было по-разному вести себя с людьми различных званий и чинов, как раз это, равное со всеми обхождение Сперанского вызывало симпатию. Потому что было необычным. Он держал себя так, будто родился и вырос не в семье небогатого священника, а в доме знатного вельможи, где с детства учат тонким манерам.
Но всего привлекательнее был Сперанский, когда говорил. В противовес принятому в светском обществе правилу изъясняться по-французски он всегда старался говорить на русском языке. И окружающие именно на русском предпочитали его слышать, поскольку в устах его изрядно к тому времени подзабытый русскими аристократами родной язык звучал с какой-то необъяснимой прелестью и новизной.
Женщины как будто вовсе не замечали его старости. Как и прежде, находясь в его присутствии, они всячески старались ему понравиться и ловили малейшие приметы в его облике и поведении, говорящие в пользу его ответного к ним чувства. Светло-голубые глаза его постоянно слегка слезились. Истинной причиной этому были его усердные занятия — он по-прежнему много проводил времени за чтением и писанием, — но женщины, видя глаза его покрытыми влажностью, давали объяснение, более соответствовавшее их желанию, чем истине: они говорили, что у Михаилы Михайловича «влюбленные глазки».
Лучшие слова о его внешнем облике выпало сказать, однако, не женщине. Эразм Стогов записал в своих воспоминаниях: «Портретов Сперанского очень много, и все похожи, только я не видал ни одного портрета с глазами Сперанского: есть предметы, недоступные для живописи! Таких глаз, как у Сперанского, я у других не встречал, не возьмусь и приблизительно описать их. Могу сказать только: глаза Сперанского я ни разу не видал изменяющимися — всегда, постоянно тихи, спокойны, ласковы: они не прищурены, но и не открыты, не вызывающие и не уклоняющиеся — ум, душа и сердце поместилось в этих глазах! Живопись бессильна! Уверен, что со смертию этих глаз других таких глаз не осталось; не видавшие выражения глаз Сперанского не составят себе понятия о прелести оригинального выражения их!»
В феврале 1838 года члены Государственного совета дружно выступили против проекта учреждения Санкт-Петербургской полиции, подготовленного Комитетом об устройстве столичной полиции, которым руководил Сперанский. Проект был настолько велик по объему, что его не стали читать весь на заседании, но, испросив высочайшего разрешения, напечатали и разослали членам Государственного совета для прочтения на дому и представления замечаний на него в письменном виде.
Таких замечаний оказалось очень много: причем критике были подвергнуты основные положения проекта. При рассмотрении данных замечаний на заседании Государственного совета разгорелись острые споры. Михайло Михайлович, частью по причине своей усталости от прений, частью из-за того, что критика проекта была обоснованной, согласился с тем, что проект недоработан.