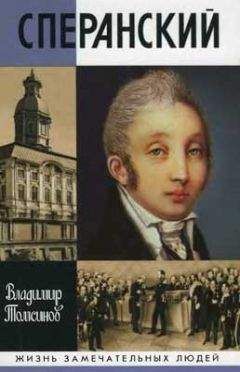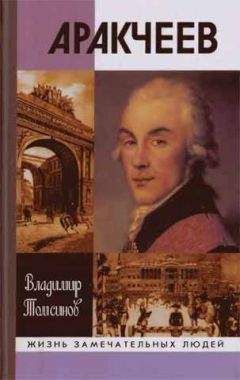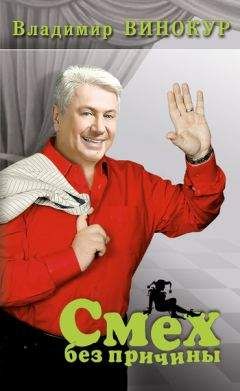В феврале 1838 года члены Государственного совета дружно выступили против проекта учреждения Санкт-Петербургской полиции, подготовленного Комитетом об устройстве столичной полиции, которым руководил Сперанский. Проект был настолько велик по объему, что его не стали читать весь на заседании, но, испросив высочайшего разрешения, напечатали и разослали членам Государственного совета для прочтения на дому и представления замечаний на него в письменном виде.
Таких замечаний оказалось очень много: причем критике были подвергнуты основные положения проекта. При рассмотрении данных замечаний на заседании Государственного совета разгорелись острые споры. Михайло Михайлович, частью по причине своей усталости от прений, частью из-за того, что критика проекта была обоснованной, согласился с тем, что проект недоработан.
Сразу после заседания Государственного совета он попытался в беседе с Модестом Корфом оправдаться — сказал, что уступил членам Совета не потому, что положения, им составленные, дурны, но из-за того, что в русской полицейской службе мало людей, способных уразуметь новые правила и исполнять их достойным образом; а потом признался: «Вообще не нам в наши лета писать законы: пишите вы, молодые люди, а наше дело будет только обсуживать. Я уже слишком стар, чтобы сочинять и отстаивать сочинение, а всего тяжелее то, что сочиняешь с уверенностью не дожить до плода своих трудов». Шел Сперанскому в ту пору шестьдесят седьмой год.
Тем не менее, что бы он ни говорил, у него было достаточно еще сил для больших государственных дел. 17 апреля 1838 года император Николай изъявил Сперанскому за создание «Свода военных постановлений» «высочайшее благоволение». В рескрипте, написанном по этому случаю, государь обращался к Сперанскому: «Михаил Михайлович! Долговременная, отлично ревностная служба ваша, обширные познания и опытность, доказанные многими особенно полезными трудами в высшем кругу дел государственных, побудили Меня вверить главному руководству и попечительное вашей собрание отечественных законов и составление полного оных свода. Обширный труд сей, по части гражданской, приведен вами к окончанию еще в 1833 году с успехом, вполне соответствовавшим Моим ожиданиям. Для довершения сего необходимого Государственного дела оставалось еще собрать и составить полный свод законам, действующим в кругу управления военносухопутными силами Империи. Ныне и сей труд, под непосредственным вашим наблюдением, вашею неутомимою деятельностью и неусыпным рвением окончательно совершен. Приемля с живейшею признательностью сей новый опыт вашей примерно полезной службы, Я за особенное удовольствие поставляю изъявить вам Мое полное и совершенное благоволение. Пребываю навсегда вам благосклонный Николай».
2 апреля 1838 года действительный тайный советник Сперанский был назначен председателем Департамента законов Государственного совета. Он достиг вершины своей чиновничьей карьеры. И все же единственной отрадой оставалось для Сперанского прошлое, которое он вспоминал с особенной приятностью. Н. И. Греч рассказал в своих «Записках», как 25 марта 1838 года, присутствуя на открытии нового университетского здания в Санкт-Петербурге, встретил он Сперанского, который сам подошел к нему для того, чтобы выразить свое удовольствие тем, что он, Греч, в письмах из Франции при описании разговора с Талейраном специально отметил, что знаменитый французский дипломат с удовольствием вспоминал о Сперанском, которого видел в 1808 году в Эрфурте.
* * *Летом 1838 года Михайло Михайлович поехал отдохнуть и подлечить свое расстроенное здоровье в Буромку. 22 июля он написал оттуда в Петербург своей дочери: «Удивительно, как здешний образ жизни, беззаботной, тихой и мирной, для меня и полезен и приятен, невзирая на совершенное бесчувствие всего нравственного и сердечного бытия; что же было бы в соединении? Рай. Но нам ли грешным здесь на земле помышлять о райских наслаждениях! Здесь надобно все покупать, даже луч солнечный не даром нам дается». Усталость от жизни явственно проступала в этих словах Сперанского. В другом письме дочери из Буромки он признался, что чувствует «все наслаждение душевной лености».
После возвращения в Петербург Михайло Михайлович переселился в дом на Сергиевской улице, который купил за 240 тысяч рублей с помощью государственного казначейства, одолжившего ему необходимую на покупку дома сумму[1]. Напротив этого жилища, ставшего последним пристанищем Сперанского, стоял дом, из которого он был поздним вечером 17 марта 1812 года увезен в ссылку.
21 октября, в пятницу, Михайло Михайлович почувствовал недомогание. Дней за пять до этого получил он простуду, но не обратил на нее особого внимания и продолжал работать как ни в чем не бывало. Надлежало лечь в постель, но в субботу в Царском Селе должны были состояться театральный спектакль и бал во дворце, и Сперанский выбрал вместо постели Царское Село. Бал во дворце окончился около двух часов ночи, и ему пришлось остаться там ночевать. Поутру, в воскресенье, Михайло Михайлович ощутил в себе уже довольно сильный лихорадочный озноб, но все равно пошел в церковь на обедню, а затем еще и на обед в царский дворец. Лишь вечером возвратился он домой. В понедельник болезнь, будто раздраженная пренебрежительным к себе отношением, восстала в нем во всей своей губительности. Лихорадочные припадки и открывшееся вслед за тем воспаление в печени уложили его в постель.
В последующие дни физическое состояние Сперанского ухудшилось настолько, что видавшие его стали предполагать скорую его смерть. Император Николай по два раза на дню справлялся о его здоровье. А в один из дней, получив очередное известие, он призвал к себе князя Васильчикова и отдал ему распоряжение опечатать по смерти Сперанского его кабинет со всеми находящимися там бумагами.
Предельную опасность болезни почувствовал и сам Сперанский. В тоскливые осенние дни 1838 года он прощался со своей жизнью. Пригласил духовника исповедаться. О смерти своей заговорил со спокойствием, явно выдававшим чувство обреченности, сознание, что жизнь для него кончена. Думал ли он о собственной судьбе в тот момент, когда близилась она к завершению? Верно, думал. Не мог не думать: по странному закону природы каждому умирающему назначено видеть сон собственной жизни в канун прощания с нею.
Итог прожитых лет должен был, казалось, радовать его. Рожденный в семье простого деревенского священника и росший в окружении крестьян, он умирал в столице империи высоким сановником, всей России известным человеком. Не только разные «превосходительства» и «сиятельства», но и сам государь проявляли повышенный интерес к его, поповского сына, здоровью. Рождение его было событием разве что для бедных его родителей, но умирание его — событие для целой России! Но, видно, не дано человеческой душе быть довольной прожитой жизнью — Михайло Михайлович испытывал внутри себя нечто подобное скорее раздражению собой, но ни в коей мере не довольство. Духовник его — протоиерей Сергиевского собора П. Я. Духовский, с которым любил он беседовать о высоких материях, навестил его, больного, и говорил с ним. Впоследствии сказывал, что Сперанский очень ругал себя тогда, находясь в предсмертии, очень сожалел, что до конца своих дней так и не смог усмирить врагов внутри себя — собственные страсти, и среди них особливо духовную гордость. «Если после беспрестанных усилий и работы над самим собою, — говорил он, — иногда и удастся ее усмирить, то спустя несколько времени она опять поднимается с новою силою, и мне остается только горевать о слабости своей воли». Что выражал сожалением этим Сперанский? Имел ли он в виду свое самолюбие, излишнюю в себе любовь к почету и другое тому подобное, заставлявшее его идти наперекор собственной совести? Или не мог забыть он выпавших на его долю унижений, не мог преодолеть терзаний души своей при воспоминаниях о прошлых обидах? В любом случае жалоба умиравшего Сперанского на себя скрывала жалобу на свою судьбу.