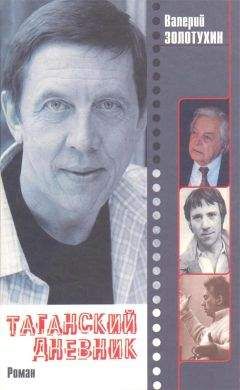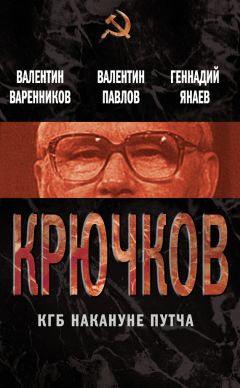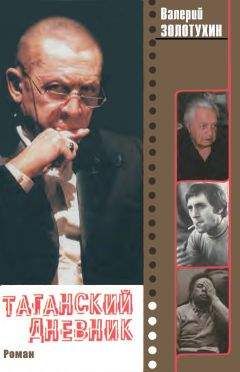Начался он с прекрасных гастролей в Куйбышеве — золотая осень, на берегу великой Волги. Хорошие деньки стояли и игралось хорошо… Премьера «Мизантропа»… Счастливое состояние души, покойное и перспективное… — ожидание, предвкушение праздника… И он состоялся — «Мизантропа» стали хвалить и увенчалось это приходом «Короля»… И все обещало интересную жизнь на театре… Потом гастроли в Польше… Триумф во Франции… уже без Эфроса!! Боже мой!.. В скачке теряем мы лучших товарищей… Я спросил Глаголина: «Боря, что бы ты сказал об Эфросе?» «Я бы сказал…» — и он получасовой монолог, горячий, искренний, полный любви, уважения и сострадания по ушедшему Мастеру. «Он пришел на залитое кровью место. Ему надо было обождать… Он надеялся взять работой и он уже взял и надорвался… Нам не хватило совсем мало времени до конца полюбить друг друга… Не хватило времени… Ты посмотри, как от него многие, очень многие отвернулись… Ефремов и пр. На Театральном съезде о нем даже не упомянул никто… Его не брали в расчет, он стал никому не интересен, потому что отдал свое имя закрыть эту проклятую таганскую амбразуру, и он ее закрыл и погиб…»
Эту тетрадку я закрою в Милане, в отеле «Рояль», № 708. Господи! Спаси и помилуй!
Р.S. А.В. Эфрос глядит мимо.
13 мая 1987
Среда, мой день.
Эфрос. Он не признавал, его бесила, ему претила так называемая трезвая мысль, логическая фраза, вообще всякая арифметика смысла… Он жил жизнью своего подсознания и заставлял нас, актеров, персонажей своего сюжета, искать смысл не в написанных словах роли, а между и дальше. Так, ничего у меня не получается, я займу слова у Франсуа Мориака, которыми он выразил душу Альцеста (формулу) — он жаждал обрести твердую почву в Стране нежности, которая по природе своей Царство зыбкости. — Это про нашего мастера точно. Это сказано о «Мизантропе», я отнесу эти слова к нашему мастеру, к А.В. Эфросу.
Эфрос. В общем, каждый должен владеть своей штучкой… Вы это содержание превращаете во что-то другое. Вы это содержание подаете какими-то средствами, а средств не должно быть, кроме тех… но не так, как это написал величайший комедиограф. Самопроверка должна быть строжайшая… Сложнейшая вещь — играть пьесы, а не композиции… вести диалог, психологически проникать друг в друга и в другого больше чем в себя… А так каждый играет свои фаски — он свои, она — свои. И получается форма и эта форма создает мою утомляемость… Все, что я говорю Вам, я говорю себе. Нельзя поддаваться искушению формы, нельзя соблазняться, иначе мы сходим с позиций, а это приводит ко лжи. Как сделать очарование без проседания? Как создать тишину восприятия? Чтобы не заменить человеческое актерским! Чтобы мелодия была более острая, более тонкая… как струна звенящая, а не как топор, колун… Чтобы логика… ладно, пусть будет и логика, но только нежная, изящная, а не железная и уж совсем не чугунная. Чистота краски, простодушие разговора… В простодушии и чистоте выкрадывается дополнительный, не сюжетный смысл… Во время такого разговора актер должен уставать, понимать, что он говорит вещи, касающиеся жизни…
Подспудное штукарство… ты не доверяешь… добавляешь, шутишь… А ты ведь в жизни не такой. Ты пишешь серьезные вещи, ты думаешь… А на сцене часто придуряешься, прячешься от нас… В жизни ты — трогательный, а на сцене… так тебя твоя биография театральная приучила. И наконец — Роль села на тебя, как костюм на фигуру… это ты и не ты… когда происходит слияние индивидуальности и образа…
14 мая 1987
Четверг.
Проглядел 41-ю тетрадь, ну и блядь же ее хозяин. Такой полив на Эфроса вплоть до заговора с Дупаком. Но удача с Мольером перевернула опять все отношения в сторону согласия и любви. Театру нужна премьера и удача. Начал я 41-ю тетрадь за упокой, как говорится, а закончил — во здравие! Так блядски устроен человек, такая блядская (да так ли уж на самом деле) профессия.
Мартин: Не понимаю — почему у тебя стоит Эфрос? Почему не Любимов? — Любимов нехороший.
17 мая 1987
Воскресенье — отдай Богу.
Эфрос. Музыку «Вишневого сада» надо настроить… Сбив настроение за счет чопорности публики, элиты… и тут кроется, быть может, отношение, которое мы заслуживаем.
Как мы эту пьесу сумели скрутить. «На дне».
Как вся эта ситуация, вся эта возня должна, очевидно, Вас веселить. Когда-нибудь я почитаю Вам свои дневники об этих «веселых» днях.
Кстати, и о «пряниках». Поездки он не любил. Как начинаются разъезды — это конец. Люди живут от поездки до поездки. Выбывает много времени. Но лишать людей радости, которой действительно не так много, было бы с моей стороны не культурно. Вот что он думал по поводу заграничного пряника. Он с радостью, со счастливой улыбкой вспоминал гастроли в Куйбышеве.
Звонила Рита. Собрала кое-какие вещи для Сережи, пусть, повезу, в Москве разберемся.
— Графоманчик, — говорит Мартин, которой я дал просмотреть интервью с Шантиль, и с ехидной улыбкой повторила несколько раз, что в интервью этом называют меня на Таганке артистом № 1. Надо бы доругаться… Да, конечно, графоманчик, господа парижские заседатели, но пусть это Вас не смущает. А ты, Валерик, не обижайся, а работай и пиши свои дневники. Они не станут дневниками Антона Овчинникова, но самому тебе помогут, как и всегда помогали, — выжить и минимально остаться человеком. Мартин — лягушечка, колкая, умненькая, хитренькая, и почему-то мне кажется, с душой взаймы, с душой прокатной. А может быть, во мне говорит ревность ее отношения к Ивану? Вряд ли. Что мне до них? Ведь про нее речь.
Считаю дни-часы, — секунды своего пребывания в Милане. Попросить Никиту Прозоровского 23-го сыграть «Послушайте».
А сейчас итальяночка будет брать у меня интервью. И я ведь дам.
«Континент»: — хотел лечь в 21 и зачитался. Действительно — интересный журнал. И что делать? Хочется Тамарке дать, а как везти? Вот ведь беда. На скандал нарываться не хочется.
Завтра «Мизантроп», время около 24. Ванька пьет мою водку. И спать не хочется мне.
А застукают с «Континентом», прости-прощай, публикация «Стариков» — заведется дело в КГБ.
Эфрос. Но когда публика не ходит, это опасно другим толкованием. Любимов объявил итальянскую публику ничего не понимающей в… опере?! За что расскандалился со всеми критиками, его доброжелателями, режиссерами, с которыми на расстоянии состоял в дружбе и пр.
31 мая 1987
Воскресенье — отдай Богу.
1. Вчера начитал свои записи об Эфросе девочке Тане из «Театральной жизни». Ей хочется конфликтности Любимов — Эфрос. Записные книжки Эфроса?! Но ведь мы не знаем записных книжек Любимова. Записные книжки сомнительный, уязвимый матерьял для установления истины.