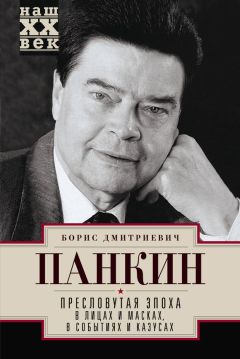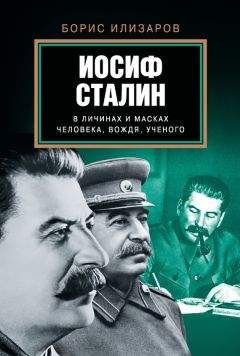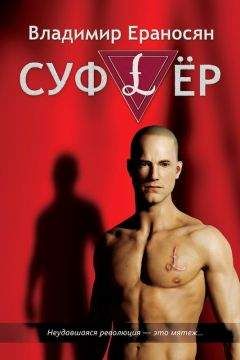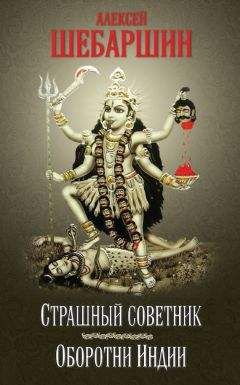Ознакомительная версия.
«В свое время, – написал он, – я по просьбе главного редактора Бориса Панкина сделал монумент в память журналистов „Комсомольской правды“, погибших в Великую Отечественную войну. Открытие было очень помпезным. Присутствовали многие наши военачальники во главе с маршалом Коневым. Встреча называлась „Фронтовая землянка“. Мы пили спирт, как на войне, из алюминиевых кружек и пели фронтовые песни. Панкин повесил табличку, где было сказано, что скульптура создана мною, погибшим в атаке лейтенантом Украинского фронта, которым командовал Конев. Я действительно во время войны считался погибшим. Рядом с табличкой поставили оружейный патрон с цветком.
Вскоре после этого я окончательно впал в немилость и уехал из страны. Но позже узнал, что все так и осталось стоять в „Комсомольской правде“ – и монумент, и табличка, и патрон».
Так мы говорили, перебивая друг друга, и мечтали о том времени, быть может недалеком, когда на этом месте возникнет Эрнстгорден. Горден – трудно переводимое со шведского слово. Это и сад, и парк, и двор, и дом… Но тот, кому довелось побывать в Миллесгордене – гигантской многоступенчатой площадке, вырезанной на скале у входа в стокгольмские шхеры и отданной творениям великого шведского скульптора, тот поймет, что мы с Эстли Нюленом имели в виду.
…Вскоре после смерти Константина Михайловича Симонова мне позвонили из Союза писателей и попросили согласия на включение в комиссию по литературному наследию умершего.
А через несколько дней пришел человек, которого я и раньше немного знал, один из секретарей Симонова, а теперь – секретарь комиссии, и рассказал предысторию ее формирования и того, как «вышли на меня».
– Это, – сказал он глуховатым голосом человека, привыкшего с бесстрастной интонацией произносить то, от чего люди вздрагивают, – это была идея самого К. М.
А вы бы не вздрогнули?
О, это была колоритная фигура – мой гость. Марк Александрович Келлерман. Колоритная тем, что в его облике… отсутствовали какие-либо краски. Одни линии. Словно бы он был карандашным или угольным эскизом самого себя. Набросал Господь Бог основные контуры да так и оставил.
А контур ожил, задвигался, вовсе и не догадываясь, что ему чего-то не хватает.
Высокий, вернее долговязый, руки и ноги – как на шарнирах. Абсолютно голая, словно древним пергаментом обтянутая голова и длинный колунообразный нос.
Подчеркнутая учтивость манер и голосовых модуляций сообщала его движениям еще большую гротескность.
Я узнал в тот день впервые, что К. М. – тут я воспроизвожу не только слова, но и манеру выражаться моего собеседника, – что К. М. задолго до смерти начал подумывать о составе комиссии, в том числе о ее председателе.
Тут он поднял на меня глаза и внимательно посмотрел, не знаю ли, мол, я, не слышал ли чего об этом.
Нет, я ничего не слышал. Заинтригован же был не на шутку. А когда посетитель сказал, что Симонов «подумывал и о вас в этой роли», то я вообще почувствовал себя персонажем то ли каверинских «Двух капитанов», то ли диккенсовской «Тайны Эдвина Друда».
– Потом, правда, – невозмутимо продолжал мой собеседник, – ваша кандидатура на председателя отпала. Он понял, – снова изучающий взгляд в мою сторону, – К. М. понял, что она не пройдет. Не пропустят литературные бонзы. Ну и потом, ваше положение главы ведомства по охране авторских прав. Скажут, мол, что тут какое-то заигрывание. Но он просил твердо настаивать, чтобы вы были в составе. Конверт со списком он просил передать через несколько дней «после всех процедур».
Многое еще тогда было им сказано такого, что и сейчас, когда позади уже «симоновский» период моей жизни, – и фильм о нем сделан, и роман опубликован, – продолжает брать за живое. Было завещание 76-го года, потом января 79-го, потом апреля 79-го.
– Лазарева (друг, биограф, литературовед) как председателя он отклонил, – рассказывал Марк Александрович. – Мол, по меркам нашего литературно-административного бомонда, то есть «для них» он – не фигура. А Караганова – потому что у того у самого со здоровьем плохо. Письмо в Союз писателей несколько раз переделывалось.
Ровно через полчаса, как и было обещано, хотя я не торопил, мой собеседник ладными движениями длиннопалых смуглых рук сложил демонстрировавшиеся им бумаги и реликвии в черный, необъятных размеров портфель, встал и удалился той же походкой робота, слегка сложившись прямым туловищем в пояснице. А потом было первое, организационное заседание Комиссии по литературному наследию К. М. Симонова. Председательствовал конечно же Георгий Мокеевич Марков. По правую его руку сидел Александр Борисович Чаковский.
– Никем из этих бонз в списке К. М. и не пахло, – вспомнились мне слова Келлермана, который вел протокол. – Он просто-таки категорически был против. Категорически, – кипятился наедине со мной Марк Александрович. – Тем более председателем.
Для большинства собравшихся, за исключением родных и близких, разумеется, такие заседания были рутиной. Каждый из этих известных и малоизвестных писателей заседал еще по крайней мере в паре такого рода комиссий.
Что меня поразило, так это то, что, когда были решены все так называемые организационные вопросы, речь пошла… об издании трудов Кафки, Булгакова, Мандельштама.
Поначалу, увидев эти глубоко чтимые мною имена в повестке дня заседания, я никак не мог понять, при чем тут они. До тех пор пока мой недавний посетитель, только что утвержденный нами официально секретарем, – тут воля покойного не была нарушена, – не распространил среди нас теми же запомнившимися аффектированными движениями смуглых длиннопалых рук «Справку к вопросам… издания сборника воспоминаний Булгакова, „Дневника“ Кафки, книги статей и прозы Мандельштама».
Все это – из ряда не оконченных при жизни хлопот К. М. – было помянуто в его завещании наряду с другими, лично его и его семьи касавшимися делами.
За справкой, копии которой положены были перед каждым членом комиссии, последовали копии писем Симонова, копии ответов ему из издательств, ведомств, музеев и научных институтов. Справка, как явствовало из даты, была составлена неделю назад, специально к заседанию, переписке же было без малого десяток лет. Страсти, которые годами настаивались в этих строках и бумагах, не замедлили вылиться наружу. В комиссии заседали разные люди, разного калибра писатели. Не все из них любили Булгакова или Мандельштама, не все читали когда-нибудь Кафку, но все любили и ценили свое творчество и не очень-то, скажем откровенно, нуждались в том, чтобы кто-то, пусть даже и всеми чтимый Симонов, Константин Михайлович, Костя, диктовал бы им, да еще из-за гробовой доски, когда и кого издавать.
Ознакомительная версия.