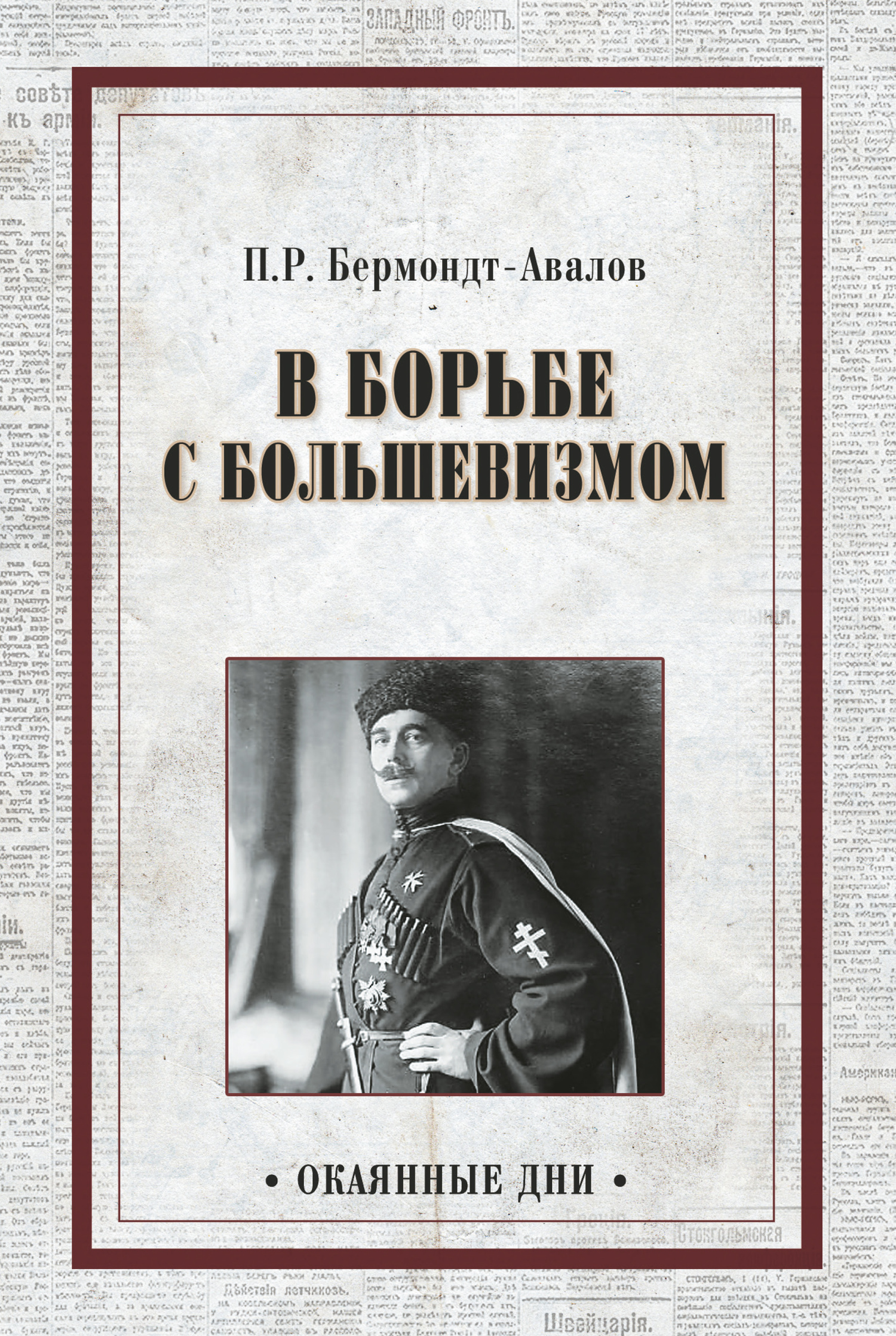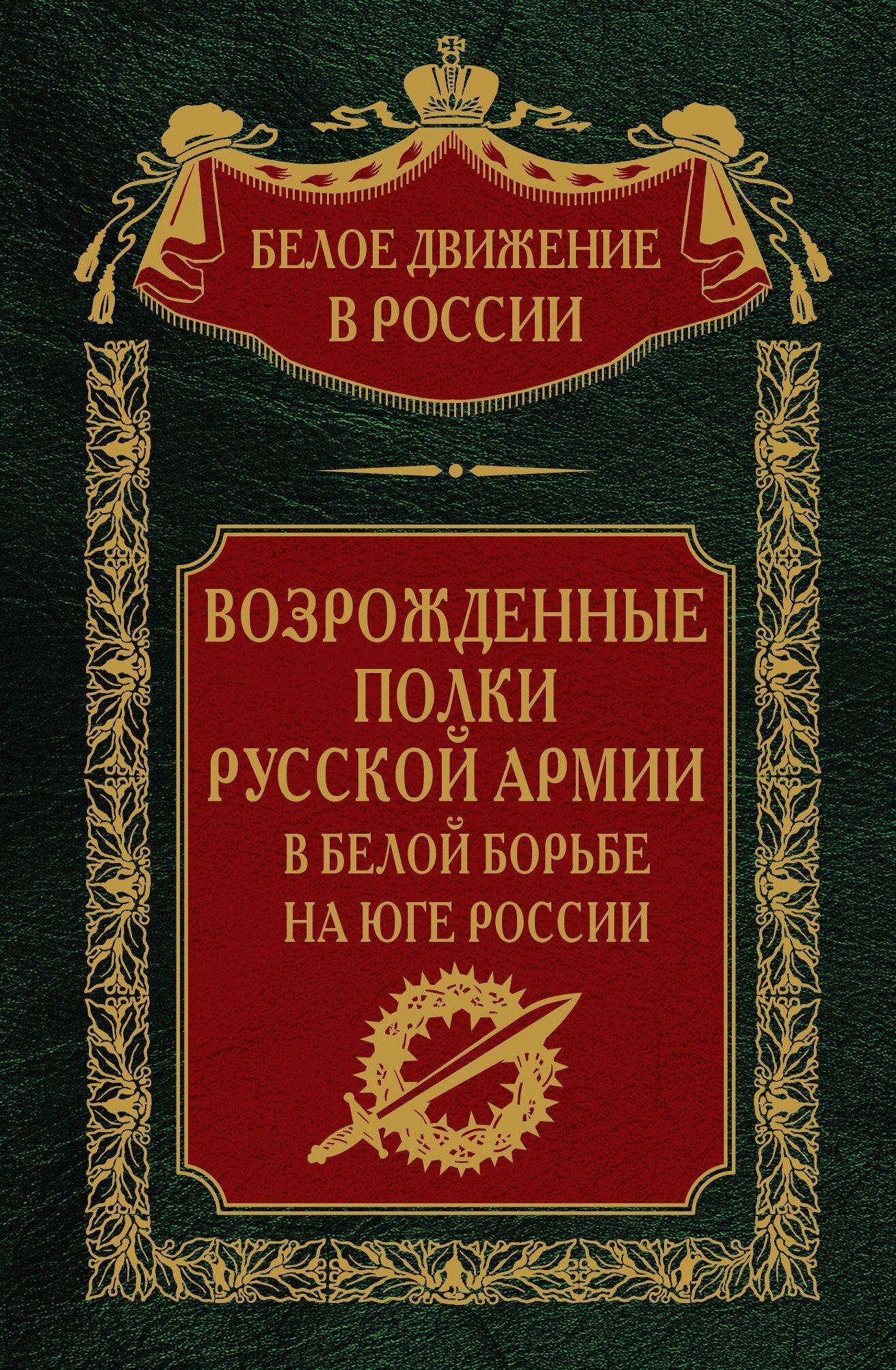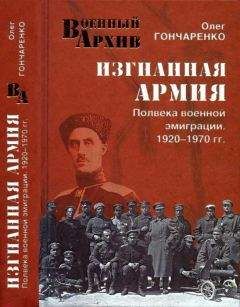тайных организаций с германской оккупацией. Правду я узнал в 1954 году из воспоминаний бывшего возглавителя польского вооруженного сопротивления, адвоката Стефана Корбонского (Stefan Korbonski. W imieniu Rzeczy-pospolitej. Paryz, 1954).
«Был у нас в центре, – рассказал он, – молодой человек из Познани, среднего роста, рыжеволосый, молчаливый и старательный, всегда очень хорошо одетый. По профессии он, кажется, был юристом – студентом или кандидатом на судебную должность. Не было случая, чтобы я, в том или ином нашем помещении, не застал его, всегда на месте, внимательным и готовым к услугам. Он был чем-то вроде секретаря Возглавления Гражданского Сопротивления. В разговорах я его называл Рыжим. Псевдонима и фамилии не помню.
В начале 1943 года наш центр помещался на улице Згода, вблизи Хмельной, в квартире доцента, ботаника Вишневского, или, точнее, его тестя, белого русского, бывшего до войны редактором русской эмигрантской газеты… Он не раз открывал мне двери, но за все время мы не обменялись ни одной фразой. Позже Вишневский начал работать для нас, в частности прятал наши бумаги в своих гербариях. Несколько тысяч папок, содержавших засушенные растения, лежали на деревянных полках в его комнате, и мы временно пользовались ими для нашего архива. Вишневский рассказал мне, что его тесть не только сторонится тех белых русских и их организации в Польше, которые пошли на сотрудничество с немцами, часто только ради лучших продовольственных карточек, но даже считает, что пользовавшиеся в течение стольких лет польским гостеприимством русские не должны вести на польской территории политики, расходящейся с интересами хозяев. Может быть, тут имели значение и другие побуждения, как, например, нежелание идти с Германией против России, даже советской, но – так или иначе – в нашем распоряжении была квартира, принадлежавшая русскому.
Однажды Рыжий, с глазу на глаз, сказал мне, что неожиданно встретил на улице старого знакомого, поляка Л., ныне несомненного агента гестапо, который немедленно привязался к нему, расспрашивая, чем он занимается в Варшаве и как устроился. Рыжий с трудом от него отделался, но после этой встречи чувствует себя в опасности тем более, что живет по «левым» бумагам, так как гестапо – вот уже два года – разыскивает его, как участника подпольной организации, провалившейся в самом начале своего существования. Он не сомневался в том, что Л. сделает все возможное, чтобы его проследить и выдать.
Мы все, без исключения, разыскивались гестапо, но все же нехорошо, что его агент напал на прямой след сотрудника центра. Так как роль Л. как агента гестапо была установлена, раздумье было кратким, а решение – немедленным и, я сказал бы, по тому времени шаблонным: «Нужно дать знать кому следует и убрать Л. возможно скорее. Приготовьте соответствующее распоряжение на подпись и, лучше всего, сами его отвезите. Завтра не появляйтесь здесь и, если возможно, не оставайтесь в Варшаве и, во всяком случае, перемените конспиративную квартиру. Контакт с нами сохраните только через связную»… Рыжий исчез, и только раз в несколько дней связная Дуся сообщала, что он жив и здоров. Настал день, когда связь оборвалась и Рыжий пропал бесследно. Мы немедленно очистили и «усыпили» все известные ему помещения… Я поговорил с Вишневским и потребовал, чтобы все покинули квартиру, по крайней мере на короткое время, и скрылись. Я предложил денежную помощь, поддельные документы. Вишневский, однако, отказался, утверждая, что, во-первых, если Рыжий и арестован, то никого не выдаст, потому что он – человек стойкий, а во-вторых, квартира очищена до последней нитки и гестапо в ней ничего не найдет.
Слушая его, я с сомнением качал головой. Я бы не поручился за кого-либо, не исключая меня самого, если бы дело дошло до пыток. Как можно сказать? Но ничего не поделаешь! Не хотят – пусть не хотят. Может быть, Рыжий не арестован, а только скрылся в провинцию? Голова была забита множеством других вопросов, связанных с его исчезновением, так что о квартире на улице Згоды я думать перестал.
Несколько дней спустя была получена плохая весть. Гестапо ночью ворвалось в квартиру и захватило там всех… На четвертом году войны сознание притупилось и никто так живо, как в начале оккупации, на подобные случаи не отзывался… Однако я едва устоял на ногах, пробегая как-то утром взглядом красную афишу с фамилиями лиц, расстрелянных во время публичной казни, наткнулся на имена Вишневского и его тестя. Не поверив глазам, я прочитал их вторично. Несмотря ни на что, я не был подготовлен к такому скорому концу. Сомневаться, однако, я не мог… Так погиб молодой, многообещающий ученый и, вместе с ним, как косвенный участник нашей борьбы с Германией, благородный русский человек».
До войны Ф.А. Котляревский жил в Варшаве, но принадлежавшая ему газета «Русское Слово» выходила в Вильне, где типографией ведал его брат. Оба были людьми купеческой складки, и дела их шли недурно. Газета не была эмигрантской и только с оговоркой могла быть названа антисоветской. Эмигранты довольствовались существовавшими – в разное время – в Варшаве газетами «За Свободу» и «Молва» или выписывали из Берлина, Парижа и Риги другие русские издания. Котляревские обращались не к ним, а к многочисленному коренному населению восточных окраин Польши, часто называвшему себя украинцами или белорусами, но тяготевшему к русскому печатному слову. Угождая читателям, они уделяли в своей газете больше внимания местной жизни, чем русским темам.
Советофильским «Русское Слово» не было, но часть его сотрудников считала, что «Россия в любом кафтане – белом или красном – остается Россией». Эта фраза была однажды сказана бывшим депутатом польского Сейма Н.С. Серебренниковым, побывавшим до войны в Москве и заручившимся там представительством советских изданий на Польшу. В 1940 году тем, кто ему поверил, пришлось убедиться в своей трагической ошибке – нагрянувшие в занятую советскими войсками Вильну московские чекисты арестовали этих «патриотов», пропавших затем без вести в далеких лагерях и тюрьмах.
Известие об аресте Ф.А. Котляревского мгновенно облетело Варшаву. Кто-то высказал предположение, что он обвинен в продаже газетной бумаги одной из многочисленных тайных польских типографий.
Это одно – если бы оказалось правдой – должно было затруднить хлопоты об его освобождении, тем более что в комитете он зарегистрирован не был и, следовательно, был в немецких глазах не русским, а поляком. Все же попытка показалась мне необходимой. Съездив в Брюловский дворец – управление германского губернатора Варшавы, – я ее сделал.
Меня выслушали вежливо и даже согласились навести по телефону справку в гестапо, но по тому, как нахмурился услышавший ответ чиновник, я понял, что надеяться на благой