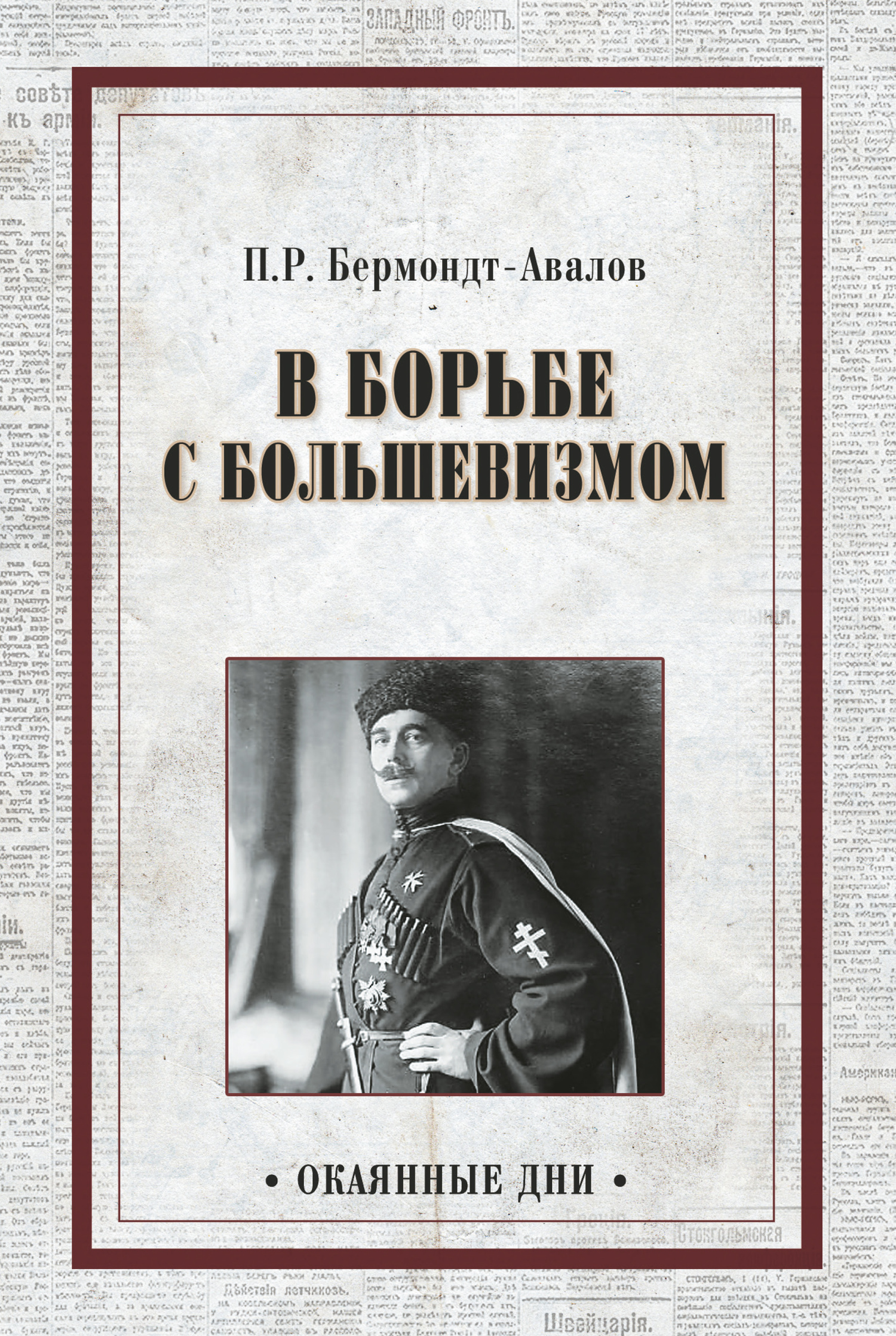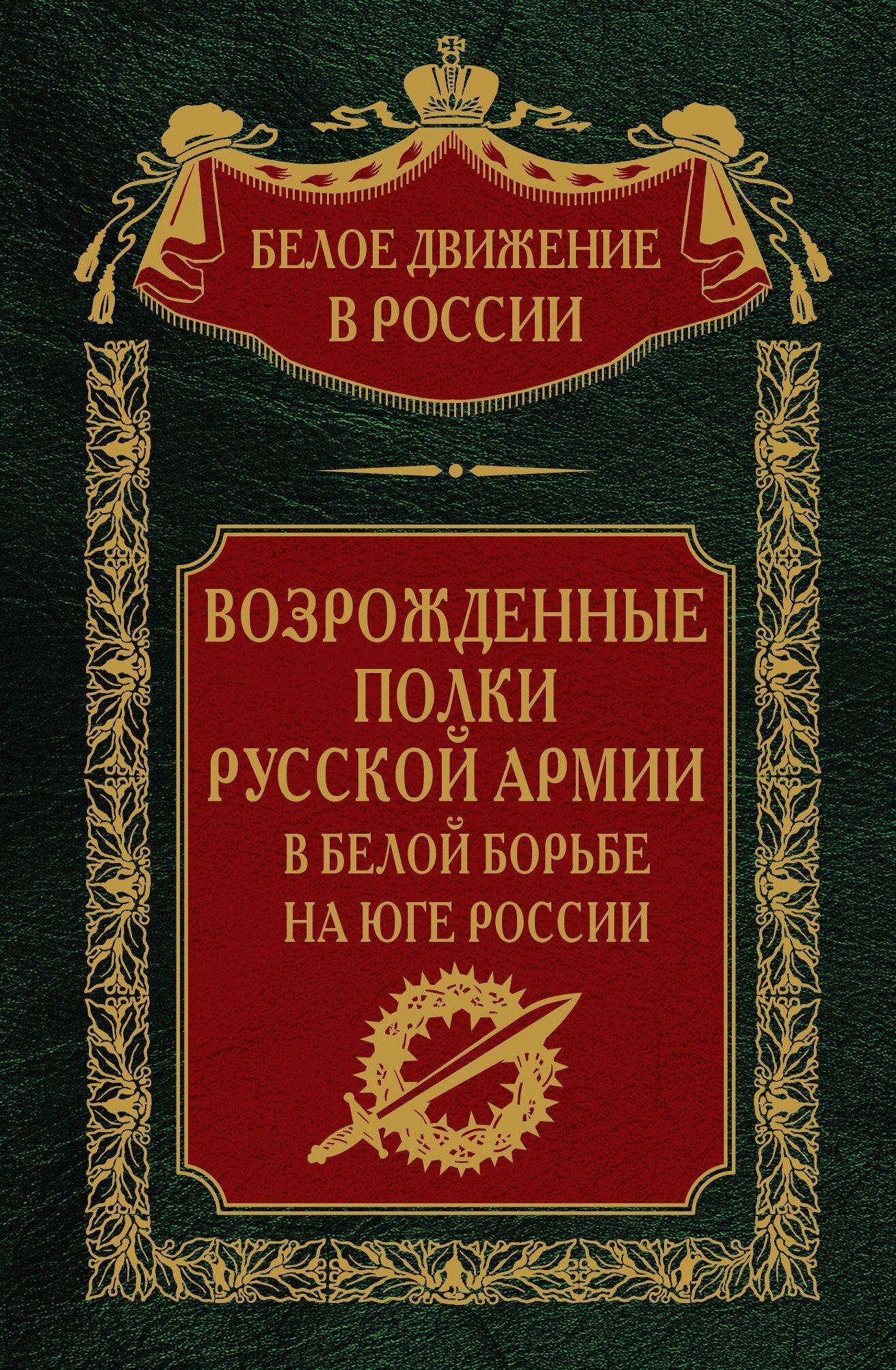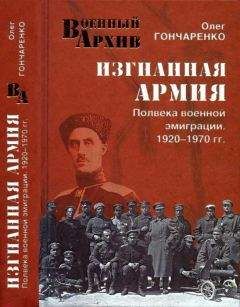исход нельзя.
– Советую вам, – сказал он, – забыть это дело… Человек, которому вы хотите помочь, тяжко провинился… К тому же он не подлежит вашей опеке… Вы только повредите себе и комитету…
На Вейской, в моей канцелярии, секретарь доложил, что свидания со мной просит брат арестованного. Я принял его немедленно, хоть раньше не встречал и увидел в это утро впервые.
Внешне он был сдержан и спокоен. Сказал, что избежал ареста, так как случайно ночевал не дома, а затем обратился ко мне с невыполнимой просьбой – побывать в гестапо и убедить его вернуть ключи от опечатанной ночью квартиры. Он прибавил, что ему совершенно необходимо туда проникнуть.
Я посоветовал забыть это и немедленно уехать в Вильну, где остались его жена и дочь. Когда он заикнулся, не сходить ли ему за ключами в гестапо самому, я назвал это безумием.
На третий день он пришел на Вейскую вторично, но был неузнаваем – мутный взгляд, опухшее лицо, растрепанные волосы, смятая одежда. Войдя в мой кабинет, он не сел, а, как мешок, свалился на ближайший стул. Прерывающимся голосом он еще раз попросил меня раздобыть ключи от роковой квартиры.
Я был потрясен непониманием угрожавшей ему опасности, но от обращения к гестапо категорически отказался… Пошатываясь, он вышел из комнаты… Дня через два появилось сообщение об его расстреле.
Летний день казался мирным и спокойным. После нескольких лет жестокого немецкого террора и польского кровавого возмездия Варшава притаилась. Стрельба на улицах затихла, прекратились облавы и бессудные расстрелы. Обе стороны знали, что им предстоят грозные события.
Еврейское гетто было уничтожено весной 1943 года, после упорного сопротивления его последних обитателей. Уцелевшие развалины были сровнены с землей, но вокруг их каменного кладбища жизнь бурлила по-прежнему.
Рынки были завалены снедью, доставленной мешочниками и крестьянами. Небольшие, уютные рестораны соблазняли обильным перечнем вкусных блюд. Баснословные цены росли под дождем бумажных ассигнаций. Мрачные личности, оглядываясь исподлобья, торговали на толкучках золотом и французским коньяком. Из-под полы они предлагали и оружие – бельгийские браунинги и советские автоматы.
По ночам случались грабежи. Город был наводнен ночными пропусками – настоящими и поддельными. Патрули боялись прохожих больше, чем они – немецких жандармов. Никто не знал, кто был ночью хозяином Варшавы – немцы ли, тайные ли польские организации или осмелевшие преступные шайки. Днем устанавливалась обманчивая тишина – предвестница бури.
На Вейской улице, в нарядном доме, один этаж которого был занят канцелярией и квартирой председателя Русского Комитета, затишье сказалось сокращением потока посетителей. В приемной не толпились те, кто недавно прибегал к моей помощи каждый раз, когда с русскими варшавянином случалась беда.
Удивителен человек… Как легко он верит шаткому благополучию… Как скоро забывает обвалы, от которых бежал накануне… Как жадно цепляется за самую зыбкую почву…
Не раз в то лето, приближавшее войну к развязке, я безуспешно пытался вразумить просителей, добивавшихся содействия в таких делах, как покупка дома или дачи, связанная с необходимостью удостоверить национальность покупателя. Призрак легкого обогащения скрывал от них пропасть, разверзавшуюся под ногами.
Разговоры с беженцами из Ростова, Харькова или Киева, успевшими выбраться оттуда при отступлении немцев, сложными не были. Одни стремились дальше, на Запад. Другие боялись Германии. Завороженные, после голодающей России, изобилием польских рынков, они хотели задержаться подольше в Кракове или Варшаве и были недовольны тем, что я настаиваю на их немедленном отъезде.
Советское наступление приближалось к Бугу. Оно было достаточно красноречивым, но сослаться на него я не мог. Немцы считали сомнение в их победе преступлением, а горький опыт жалоб и доносов научил меня осторожности.
Приближение фронта беспокоило многих, но не всех русских варшавян. Одни не верили, даже тогда, в обреченность Германии. Другие, вместе с поляками, надеялись на чудо – появление английских парашютистов над Варшавой. Третьи утешали себя тем, что «коммунисты изменились к лучшему». Большинство сознавало опасность, но не знало, что предпринять.
Только новые беженцы могли беспрепятственно двинуться на Запад. Остальное население было приковано к городу сложной цепью трудовых и паспортных правил. Немногие русские дельцы, разбогатевшие на войне, добывали пропуска и переселялись в Чехию. Она почему-то казалась им верным убежищем, но стала западней. Двое или трое сразу сделались в Праге жертвой шантажистов, связанных с немецкой полицией. Остальные попали позже в советские сети.
Внешне в это последнее лето германской оккупации в варшавском Русском Комитете ничто не изменилось. В Михалине, на восточном берегу Вислы, как в прошлые годы, был открыт детский летний лагерь. Поблизости, в Свидере, разместился эвакуированный из Брест-Литовска русский приют. В самой Варшаве, в особняке графа Тышкевича, зятя покойной Великой княгини Анастасии Николаевны, членам комитета раздавались мука и сахар. Служащие, радуясь перерыву в долгом напряжении, приводили в порядок архив.
До войны я был управляющим делами Российского Общественного Комитета – эмигрантской организации, к которой польские граждане не принадлежали. Судьба всех русских варшавян стала моей заботой в тот сентябрьский день 1939 года, когда я услышал по радио распоряжение польской военной власти об оставлении столицы всеми способными носить оружие мужчинами. Исполнение этого приказа означало бы уход в единственном направлении, еще не отрезанном стремительным германским вторжением в Польшу. Оно означало приближение к советской границе, которую большевики – как я предвидел – готовились нарушить.
За несколько лет до полета Риббентропа в Москву и подписанного им там соглашения Гитлера со Сталиным эта опасность меня беспокоила. В статье, написанной для большой консервативной польской газеты «Курьер Варшавский», сотрудником которой я был под псевдонимом Эрго, я предсказал неизбежность советского нападения на Польшу в случае польско-германской войны. Мне возразил в той же газете находившийся тогда в опале противник пилсудчиков, бывший начальник польского главного штаба генерал Владислав Сикорский, впоследствии возглавивший польское зарубежное правительство в Лондоне и погибший 4 июля 1943 года в загадочной авиационной катастрофе у берегов Гибралтара. Он назвал мое опасение ошибкой и заверил, что «Россия никогда не поддержит Германию против Польши».
Этот оптимизм показался мне тогда иллюзией. В сентябре 1939 года он стал очевидной ошибкой. С минуты на минуту я ждал известия о появлении советских войск на польской территории и не соблазнился приглашением добрых друзей «переждать события» в их пограничном имении на Волыни.
Распоряжение об оставлении города меня формально не касалось. Я был уроженцем Варшавы, но не польским гражданином, а бесподданным обладателем нансеновского паспорта. Однако не это повлияло на мое решение. Я был готов уйти куда угодно, но только не в объятия советчиков.
Позже, недели