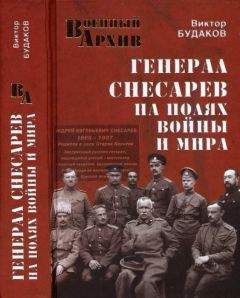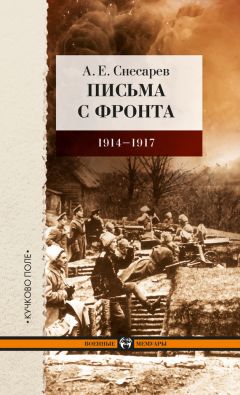А вообще-то московские трамваи были не столь опасны, как в знаменитом булгаковском романе, ходили не быстро и оповещающе-звонко, вся Москва была исчеркана трамвайными линиями, вся Москва знала номера трамваев, откуда и куда тянутся их маршруты, и привычное неудобство заключалось разве в их переполненности, такой «набитости», что у втиснувшихся счастливцев нередко «терялись» кошельки. Снесарев и его дочь предпочитали пешие походы по Москве. Женя часто увязывалась за отцом, когда он шёл на работу и в Институт востоковедения, и в Военную академию Генштаба. «Папа обычно шёл пешком на Армянский переулок, где находился институт, облачённый в боевую шинель, видавшую виды папаху с повязанным по военной форме башлыком. Когда в 1922 году Академия переехала в новое помещение на Пречистенке, папа опять-таки предпочитал ходить пешком, хотя туда ходил трамвай № 34. Я обычно провожала его туда, и по дороге мы вспоминали и заучивали стихи Лермонтова и Пушкина. Так был выучен “Хаджи-Абрек”, “Песнь о купце Калашникове”, большие отрывки из “Евгения Онегина”, не считая множества мелких стихотворений».
Воздвиженка, 6 (правое крыло, Кремлевка, четыре окна на третьем этаже от края, под мемориальной ленинской доской. Улица Грановского, бывший Шереметевский переулок). Иногда ему диковинно было подумать, что он, уроженец донской слободы, из неродовитой фамилии, вышел в большой мир — сначала как студент и выдающийся выпускник Московского университета, а теперь выдающийся учёный, военный практик и мыслитель, который живёт в самой сердцевине Москвы, у родного университета, у Кремля, у собора Христа Спасителя…
В конце 1921 года при ленинском Совнаркоме была создана Комиссия по улучшению быта учёных, так называемая КУБУ, позже переименованная в ЦЕКУБУ
Сколько всех этих засоряющих русский язык «КУБУ» было и в те годы и долго ещё — ВЦИК, РККА, НКВД, ГПУ, КУТВ, Совдеп, Наркомнац, шкраб, женбарак, рукраб, рабдень… Это были для русского языка годы мутного потока, мусорного ветра, революционной новизны-лаконичности. Михаил Булгаков и Андрей Платонов замечательно об этом пишут.
Комиссии надлежало обеспечивать учёных дополнительными пайками. После 1923 года выдавались уже не пайки, а денежное академическое обеспечение. Снесарев был отнесён к высшей категории А — выдающиеся учёные (категория Б — основная группа, категория В — дополнительная группа).
Тут же, на заре нового мироустройства, появились закрытые кооперативы, в которых могли покупать только сотрудники данного учреждения, закрытые распределители, которые распределяли меж близкими, нужными, своими. Надо думать, что Андрей Евгеньевич, поучаствовав в организации этой КУБУ, помогшей многим семьям учёных, всё-таки не очень уютно себя чувствовал. «Философский пароход» с выдающимися, европейски значимыми именами отечественной культуры — философами, религиозными мыслителями, богословами, историками, не во всём лояльными, а подчас и враждебными к советской власти, был попросту изгнан из страны. И тут обошлись без КУБУ, то есть не обнаружились комиссионные ни протест, ни помощь, да таковых уже и не могло быть. Арбатские особняки старой знати отдавались отнюдь не под музеи. И музеям во всей их умалившейся численности также КУБУ не улыбнулась. А главные цареборцы, подобно царям допетровского времени, царственно обосновались в Кремле, и Кремль, святыня русского народа, был теперь главный распределитель.
ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ — ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1923–1924
«Воспоминаний целая уйма: Пуришкевича, Родзянко, Деникина, Лукомского… — запишет Снесарев в дневнике 13 мая 1923 года. — Все эти мемуары страдают историческим дальтонизмом, пристрастны и узки. Пронёсшаяся буря над Россией, да и над миром, не научила никого ничему… Кадет толкует своё, правый своё. Всюду подгонка бедной природы под субъективный шаблон мысли».
Справедливо и точно, кроме разве «пронёсшейся бури», поскольку оная никуда не делась, а каким-то немыслимым образом владычит над русскими пространствами, то разрушительно-видимая, то притаённая.
Вот снова над страной повеяло холодом и жаром возможной войны. Правительство Великобритании вручило советскому правительству ноту Керзона — с требованием отозвать представителей СССР из Персии и Афганистана, допустить ловлю рыбы в советской зоне и возместить «убытки»… Срок для раздумий давался десятидневный, угрозы были размашистые, открытые, вроде бы и не в английском стиле…
Поистине: война закончилась — война продолжается. Побеждённые немцы, может, даже немцы-неудачники более всего его привлекают. Бернгарди, Шлиффен, Фалькенгайн, Куль, Шварте — Снесарев переводит их труды, к трудам пишет вступительные статьи.
Почему не удачливые англичане, а поражённые немцы? Притягивают более высокий, отважный, жертвенный дух немцев и надежда в новой схватке увидеть их союзниками? Или предчувствие, что снова именно с ними придётся столкнуться его стране?
Неспроста он в предисловии к книге Фридриха Бернгарди «О войне будущего», изданной ещё в 1921 году, сочтёт необходимым сказать: «Бернгарди — милитарист, считающий войну народным промыслом Пруссии, верящий в нравственность, чуть ли не святость этого явления. Для него война не неизбежное зло, а, напротив, источник всех материальных и нравственных благ. Пацифизм для него — безнравственная доктрина; автор уверен, что человечество может завершить свою миссию только борьбой, только жертвой и подвигом… Правда, в своей идеологии прусского юнкерства Бернгарди теперь стал много скромнее: он стар, он поставлен на колени грозным ураганом событий, пролетевшим над его страной, он уже не говорит об её господстве над миром, он говорит уже о близкой могиле. Но за этими внешне уступчивыми и смиренными нотами внимательное чтение найдёт и прежнего Бернгарди: в его проповеди о нарушении договоров, как это делалось предками “на глазах французских гарнизонов”, в презрительном отношении ко всему, что не носит мундира, в его апологии диктаторства и, наконец, в его неумершей вере в величие будущей Германии».
Есть и более серьёзные размышления по поводу будущего Германии, их находим в статье, только в двухтысячном году опубликованной, «Военно-экономические перспективы Германии», где он справедливо и не без внутренней сопереживательности полагает, что грабительский Версальский договор побуждает германский народ искать выход из навязанных ему условий, из трагически замкнутого пространства, из разграбленного дома с дверьми, извне захлопнутыми и закрытыми на ключ. Не может не искать, «иначе ему грозит политическая смерть, небытие. Ещё ужасней этой смерти то ярмо раба, которое выносит ныне страна. Отсюда естественно, что взор измученного народа вынужден обернуться за спасением к тому же страшному оружию, которое свалило когда-то страну в пучину, к войне. Итак, война как соломинка для утопающего, как последний отчаянный взмах руки, чтобы поймать улетающую искру жизни!»