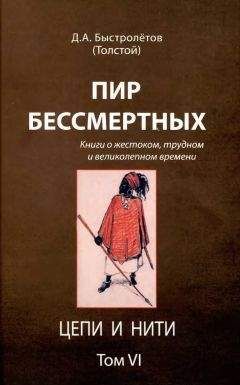Мать работала делопроизводителем в сельсовете. Она сурово выругала меня за приезд, который назвала глупым, бессмысленным и преступным; помочь ей я не мог, но сам потерял возможность учиться. Моё место, горячо твердила она, в России, но только в качестве полезного стране человека. Пора кончать скитания, надо устраиваться на определённом жизненном поприще, надо учиться и ещё раз учиться.
Она рассказала, что после моего исчезновения из Анапы и Новороссийска к ней постучались как-то утром два матроса. Одного из них, с усами, она заметила на даче Николенко, где помещалась ЧК (мы когда-то жили рядом, и мать ходила за рыбой к бывшему хозяину). Матросы попросили накормить их, говоря, что идут издалека. Мать приветливо усадила их и подала чай и борщ — всё, что было. Усатый хотел было начать креститься перед едой, но увидел, что иконы нет. «Я неверующая, садись, браток», — успокоила его мать. Усатый завел речь о том, что он, мол, служил у белых вместе со мной и пришёл узнать, нет ли у матери моего адреса. Мать резко оборвала его, закричав, что у белых я не служил и что всё это какое-то недоразумение. Матросы переглянулись, поели и ушли, а, перейдя площадь, постучались к станичному священнику. Тот им ответил: «Идите в совет, у меня не проходной двор». В ту же ночь они арестовали его и за станцией расстреляли.
Рассказав эту историю, мать отдала мне последний кусок хлеба и сала и проводила за станицу. Я пошёл по дороге, но потом вернулся и выглянул из-за куста, думая, что мать ещё стоит и машет мне рукой. Но она лежала на траве, и тело её сотрясалось от рыданий. Я побрёл в Новороссийск. Работы нигде не было. Еле-еле сел на пароходик, шедший до Батуми. В каждом порту искал работу и не находил. Ночью слушал разговоры комсомольцев о том, что стране нужны специалисты и какая хорошая будет когда-нибудь у нас жизнь. В Батуми работы не было. На рейде опять стоял итальянский лайнер. Я не ел третьи сутки, но не замечал этого. Мысли мои были в Чехословакии, в светлых и радостных аудиториях, которые я бросил неизвестно почему. Гневные слова матери и мечты вслух комсомольцев не давали мне покоя. Я был внуком Осы. Всё во мне напряглось для прыжка.
И я прыгнул.
Подошёл к итальянскому моряку и по-французски попросил сигарету. Он одну сунул себе в рот, а пачку, в которой осталось ещё две, подал мне. Зажёг свою сигарету и полупустую коробочку тоже сунул мне. Я вынул сигарету изо рта и бережно положил её в пачку. На пристани нашёл брошенную итальянскую газету. Разгладил её, сложил и сунул в карман так, чтобы хорошо видно было заглавие. Подождал, пока с лайнера подали баркас. Тогда сжал зубы и, как тигр, бьющий себя хвостом по бокам, ринулся вперёд, прямо на оцепление чекистов.
Я шёл медленно, по самому краю пристани, останавливаясь и сплевывая в воду. Потом, сунув руки в карманы, двинулся к баркасу.
— Документы? — сказал пожилой человек в кожаной куртке и фуражке, с наганом у пояса.
— Это итальянец, видишь, какая у него газета, — вмешался другой.
Я приветливо улыбнулся.
— Чигаретти? Праго, синьоре, прэго!
Вытащил пачку, взял себе ту самую сигарету, которую уже держал во рту, зажёг, а коробочку вместе с пачкой и оставшейся сигаретой сунул в протянутую для документов руку.
Чекист замялся.
— Я ж говорил, что это итальянец! Оставь докурить, слышь ты!
Дымя сигаретой, я прыгнул в баркас. Смерть, так много раз до и после этого, прошла совсем рядом, я чувствовал на своём лице её леденящее дыхание.
Как матросы зайцами ездят на судах, читатель этих воспоминаний может узнать из книги «Залог бессмертия». Это не каждому дано вынести. Константинополь доживал последние дни: триста кемалистских жандармов уже прибыло в город — их внесла на плечах обезумевшая от восторга толпа турок. Рождался Стамбул. Иностранцы — колонизаторы, торговцы, спекулянты — в панике бежали. Во взвинченной истерическим страхом толпе я сумел пробиться к столу консульского чиновника и получил визу. До этого на лайнере я прятался в вытяжном колодце-кочегарки и ночью крысы съели на мне кепку и куртку. По приезде какая-то богатая дама подарила мне свой купальный костюм, так что вид у меня был не совсем обычный. На всех балканских границах, услышав окрик «Ваши вещи!», я предъявлял огрызок карандаша, и таможенники и жандармы с удивлением смотрели на истощённого голодом парня в дамском купальном костюме, выглядывавшем из дырявых матросских штанов.
В Брно Юревич и другие друзья собрали мне кто рубаху, кто галстук, кто кепку. Я явился в Прагу, устроился могильщиком на кладбище и стал учиться.
Потом начал карабкаться наверх.
Работал в торгпредстве и полпредстве. Поступил в разведку и ушел в подполье. За границей прожил восемнадцать лет.
Пора подводить итог.
Всё, что при Советской власти я замечал хорошего, никогда не фиксировалось в моём сознании. Сознательно я замечал только плохое, потому что оно больнее, оно обжигало, оно втыкалось в тело.
Но хорошее оставалось и жило в подсознании. И когда опять началась полоса отдыха, то, поболев несколько месяцев прежним своим недугом, я переборол его и стал не только хорошим студентом, но и яростным борцом: люди в котелках с «Преподобного Сергия» также гнали меня вперед, как концерты для рабочих в Одессе, — дурное и хорошее не только всплыло в памяти, но и получило разумную оценку. Я стал коммунистом не потому, что хотел получить красную книжечку и продвинуться по службе, а для того, чтобы бороться за правду вместе со своими единомышленниками: убеждения мне вколотила в голову сама жизнь. Маркса и Ленина я стал читать позднее, а агиток не читал никогда: они мне были не нужны. Я стал руководить Союзом советских студентов в Чехословакии, потом работать в Торгпредстве и Полпредстве и, наконец, вошёл в подпольную разведывательную группу. Эти этапы не были причиной становления мировоззрения, но его естественным и закономерным последствием.
В подполье я ни одного дня не сидел в тылу, но всегда рвался в первую линию борьбы. Сотни раз рисковал собой. Был награжден.
Меня арестовали совсем не потому, что я сын графа Александра Николаевича Толстого, и не потому, что когда-то, после окончания гражданской войны уехал за рубеж учиться без разрешения, хотя тогда оно свободно давалось в Закавказье всем желающим. Об отце в анкетах я не писал ничего — ведь он лично не участвовал в формировании моего мировоззрения, а о побеге писал во всех анкетах и сразу же заявил на следствии после ареста. Но мне всегда отвечали: «Знаем. Это пустяки. Не своди следствие к чепухе. Признавайся в терроре и шпионаже». Почему? А был арестован потому, что имел несчастье работать среди партийных людей, подлежащих уничтожению в ходе внутрипартийной борьбы. Уходя в могилу, они потащили меня за колючую проволоку.