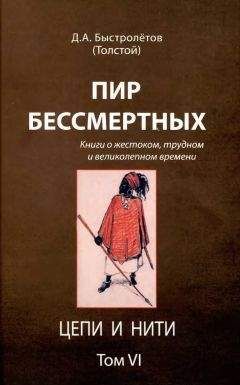Когда похолодало, нас привезли в Чехословакию и устроили в высшие учебные заведения.
Анечка перевела дух.
— И кончился, наконец, этот жуткий период твоей жизни? Всё хорошо, что хорошо кончается, правда?
Но я ничего не ответил: лгать не было сил, но и сказать правду я тоже тогда не решился.
— Ты что делаешь? Тише! Не шевелись!
— Сбрасываю ногами наше прикрытие. Вставай, Анечка! Фуркулицы уже нет, проверка кончилась!
13Ещё с порога Галька замахала руками.
— Скорей к начальнику! Он ждёт!
Пожилой начальник МСЧ, лейтенант Шевченко, кадровый служака из армейских фельдшеров, грузный, квадратный, сидел развалясь в кресле и, одобрительно улыбаясь, смотрел на свой портрет моего изготовления.
— Садитесь, доктор. Не налюбуюсь на вашу работу. Жена хвалит, ну и всё начальство, конечно, — Беретов, Трушенков. Сходство, говорят, самое точное: на каждой пуговичке звёздочки штампованные видны, портупея и погоны, как живые! Угодили, доктор! Ну и вот, возьмите, — жена присылает.
Начальник протянул мне завёрнутые в газету четыре яйца.
— Варёные! И заботиться не надо! Ешьте на здоровье!
— Спасибо, гражданин начальник!
Я вышел довольный. В последнее время рисунки давали мне постоянный доход. На первое мая меня, как опасного террориста, притащили по общему положению в изолятор в качестве предупредительной меры — ведь я могу в этот день что-нибудь устроить! — но вместо того чтобы сунуть в клоповник, старенький начальник изолятора усадил меня за стол и протянул лист бумаги с карандашом.
Часов до трёх я работал, а потом он налил мне из кринки брагу и протянул кусок свинины. Мы пили за пролетарский праздник, чокались и курили так долго, пока меня развезло. Я окосел так, что не мог подняться и пошевелить языком. Начальник дал мне двух самоохранников, и они под руки потащили меня вдоль забора в зону, навстречу пьяным бескон-войникам, которых другие самоохранники волокли в изолятор за праздничное нетрезвое состояние.
За работу в мастерской игрушек Бульский посылал то соленую рыбу, то картофель. Работать портретистом для начальников, кроме Бульского, было легко — самым тщательным образом отрисуешь форму и ордена, и готово: на лица они не обращали внимания. Я так обнаглел, что в центре рисунка Шевченко поместил ордена, а верх лица, его низкий лоб, совершенно убрал и начальник даже не заметил этой потери. Теперь, зажав в руках пакетик, я гордо шагал к Анечке, мне было приятно хоть чем-нибудь участвовать в улучшении стола, — ведь посылки из дома получала только она.
За ужином говорили о побеге каторжан: для старых контриков это было непостижимо — они все считали себя советскими людьми, и бросить открытый вызов начальству не только не смели, но не могли и не хотели. Их воля была парализована мировоззрением. А после войны в лагере появились новые люди, открытые враги, смело заявлявшие об этом всем и каждому. Нам казалось это странным и жутким. Мысль о том, что беглые каторжники с оружием в руках прокладывают себе путь к китайской границе, всех волновала, и мы в сотый раз повторяли себе скупые подробности побега и убийства стрелков и свои догадки относительно исхода их ошеломляющего предприятия. Поведение арестованных стрелков никто не осуждал и никто в зоне не удивился, что они попрятались в кусты.
Мы так заговорились, что опоздали к началу спектакля в клубе. Когда, наконец, собрались, явился Плотников и в окно крикнул:
— Доктора Быстролётова к цензору! Явиться на вахту через час!
Я был очень рад, что старший надзиратель пришёл за мной при всех и открыто. Я нарочно всем рассказывал о таких вызовах, чтобы у товарищей не возникло подозрение, что я стукач и бегаю к оперу с доносами. Но все знали, что в зоне я один знаю «все языки на свете», и верили мне, хотя, может, и побаивались. Для закрепления эффекта я частенько рассказывал о своей работе на Лубянке в ИНО ГУГБ и этим заставлял придерживать неосторожные язычки: это же спасало от попытки опера действительно превратить меня в своего осведомителя.
В клуб мы пришли к середине пьесы. Шла «Тётка Чарлея» с отцом Николаем в роли тётушки. Ему сшили юбку и блузку по моему рисунку, а на голову из Мариинска привезли настоящий дамский парик. Играл отец Николай великолепно: это была едкая пародия на английскую леди, и когда он, гордо закинув голову, срывающимся от возмущения голосом крикнул:
— Здесь только одна девушка, и эта девушка — я! — то зал дрожал от хохота.
— И всё же мне непонятно, как наши старушки могут ему верить? Как они не видят, что отец Николай — противоположность всякой вере? — спросила Анечка, когда мы вышли.
— Всякое горячее чувство — слепо, — философски ответил я, когда мы подошли к вахте.
— Значит ты не любишь меня?
— Люблю. Но любовью холодной, как железо.
— Ты — страшный человек.
— Ты сегодня в третий раз повторяешь эту фразу. Я не обижаюсь: ты не понимаешь, что я человек страшного времени.
— Разговорчики отставить! — сказал надзиратель, выйдя из сторожки. — Шаг вперёд! Говорите данные!
«Хитрый домик», то есть Оперчекчасть, находился недалеко от вахты. Пока опером был Долинский, домик казался заключённым проклятым гнездом. Но Долинского уже не было. После него в конце войны опером работал всегда пьяный кавказец, весёлый фронтовик. Он отличился тем, что, во-первых, чуть не застрелил начальника лагпункта, приняв его за крадущегося из зоны заключённого, а во-вторых, будучи пьяным, заснул в огороде у врача Носовой. Утром встал и ушёл, забыв в грязи портфель с секретными документами. Делами он не занимался и заключённых не притеснял. Его скоро убрали.
Теперешний опер, высокий, бледный капитан, израненный в боях, в зоне вообще не появлялся.
Когда цензор, хромой старичок, бывший судья, усадил меня перед грудой писем и стаканом крепкого чая сказал: «Ну, работайте!» — и вышел, то в комнату неожиданно вошёл опер. Я встал. Он присел на край стола.
— Садитесь, доктор. Сколько языков знаете? — он говорил, морщась от боли и оглаживая простреленную ногу. — Здорово! А я вот ни одного. Значит — неспособный.
Опер протянул мне портсигар и чиркнул спичкой. Мы задымили молча. Вдруг он встал. Я вытянулся.
— Я уезжаю из Сибири. Надоело. Эта работа не по мне. Я строевой офицер, а не полицейский. Еду к себе на Украину добивать банды. После войны их там много.
Он помолчал. Мы стояли, вытянувшись друг против друга.
Вдруг резким прямым движением он протянул мне руку:
— Держитесь до конца, доктор! Я прочитал ваше дело. Вы молодец. Скоро всё переменится. Нельзя, чтоб так долго оставалось по-прежнему. Держитесь! Вы скоро будете на свободе! Ну, желаю наилучшего!