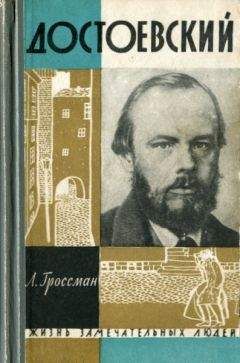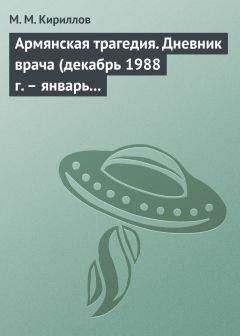Ночь больной провел спокойно. День 27 января прошел без возобновления кровотечений. Семья успокоилась, отец беседовал с детьми, читал корректуру «Дневника писателя», предназначенного к выходу 31 января: в этом выпуске обсуждались важнейшие политические вопросы момента — о конституции и земском соборе. Достоевский опасался цензурных запретов. Он беседовал с метранпажем и узнал, что номер пропущен. Вообще же состояние его было возбужденным: «То он ждет смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, — записал Суворин, — то живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает». Прибывший профессор нашел значительное улучшение и обещал выздоровление.
В семь часов утра 28-го Анна Григорьевна проснулась и увидела, что муж смотрит на нее.
— Ну как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила она, наклонившись к нему.
— Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полушепотом, — я уже три часа как не сплю и все думаю, и только сознал ясно, что я сегодня умру.
— Голубчик мой, зачем ты это думаешь? Ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет, очевидно, образовалась «пробка», как говорил Кошлаков. Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!
— Нет, я знаю, я должен сегодня умереть!
Он раскрыл книгу, подаренную ему в Тобольске женами декабристов.
— Ты видишь «не удерживай», значит я умру.
Анна Григорьевна плакала. Он снова благодарил ее, утешал, поручал ей детей.
— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда даже мысленно!
В 11 часов горловое кровотечение повторилось. Больной почувствовал необыкновенную слабость. Он позвал детей, взял их за руки и попросил жену прочесть притчу о блудном сыне. Это был последний рассказ, прослушанный Достоевским. После нового кровотечения в 7 часов вечера он потерял сознание и в 8 часов 38 минут скончался.
Комната была полна друзей и знакомых, присутствовавших по старинному обычаю при кончине любимого человека. Перед ними на темном фоне дивана, под фотографией «Сикстинской Мадонны», недвижно застывало «измученное мыслью, словно все прожженное изнутри страстным пламенем лицо…».
Через два дня тело провожали на кладбище несметные толпы народа. Федор Михайлович выражал желание быть погребенным рядом с Некрасовым, которого считал своим восприемником в литературе. Но Достоевский был похоронен вблизи надгробия другого любимого им поэта — Жуковского, на кладбище Александро-Невской лавры. Над раскрытой могилой писателя прозвучали речи его старейших друзей, в том числе и петрашевца Пальма. Здесь же находились Аполлон Майков, Д. В. Григорович, артист В. В. Самойлов, Д. В. Аверкиев, Орест Миллер, Вл. С. Соловьев, профессора, студенты, бесчисленные и безвестные читатели бессмертных книг русской литературы.
Достоевский любил говорить молодым искателям: «Возвысьтесь духом и формулируйте ваш идеал». Это было и для него задачей всей жизни. Он прошел ряд разнородных этапов в поисках путеводной истины. Романтизм и утопический социализм, христианство, и, в частности, православие, «почва» и славянофильство, «золотой век» и борьба с «вымирающей» Европой, наконец, теократия, то есть государство-церковь — таковы были стадии развития его главной идеи: он признавал себя слабым в философии, «но не в любви к ней, — добавлял он в письмах к друзьям, — в любви к ней я силен». И он поистине это доказал богатой эволюцией своего мировоззрения, охватившего столько теорий, систем, учений, гипотез!
Не все здесь было органичным и целостным. В умственных увлечениях Достоевского, всегда искренних и страстных, было немало преходящего, наносного и случайного. Но зато был и один незыблемый догмат веры.
Его подлинным идеалом и глубочайшим родником его творений был русский народ во всем его историческом величии и трагизме протекающей борьбы. Широко изучивший историю России, навсегда запомнивший мужика Марея и его глухую деревушку, долго проживший рядом с народом в каторжном каземате и солдатской казарме, Достоевский к началу шестидесятых годов выработал свою заветную идею: высшая ценность заключается в духовной, поэтической и философской культуре его даровитого и несгибаемого народа, призванного в будущем к величайшей исторической миссии.
«Мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории человечества» — такими словами вводит Достоевский читателя в свой обзор крупнейших явлений отечественной литературы, которую он любил восторженно и кровно.
Отсюда его культ русского искусства во всех его отраслях — от Аввакума до Льва Толстого, от Андрея Рублева до Репина и Крамского, от частушек и заплачек до Глинки и Серова, от кремлевских соборов до московских звонниц XVIII века. Все это раскрывало ему глубочайший источник его заветных раздумий — «море-океан земли русской, море необъятное и глубочайшее», великий народ в его духовных исканиях и творческих достижениях.
По-особому ценил и разрабатывал писатель-художник одно из величайших созданий своей нации — полнозвучный и всемогущий русский язык, принятый им непосредственно из уст деревенских женщин, от подмосковных кормилиц с их песнями и сказками. Отсюда возникли первоистоки его могучей речи, не признанной его современниками и только в наши дни получающей свою достойную оценку. Из самых глубин народного говора прорастала эта несравненная по выразительности и ударности художественная проза чуткого к музыке и стиху романиста, собиравшего всюду затерянный в массе русский фольклор, особенно в его песенной традиции. Об этих глубоких корнях литературного слога он вспоминал гораздо позже, когда свое горячее чувство любви к родной речи выразил в лаконичном и безбрежном афоризме: «Язык — народ».
Но он не замыкался в пределы своей страны от других наций. Европа, несомненно, была одним из сильнейших впечатлений его души, столь богатой сильными ощущениями. От его юношеских увлечений Шекспиром и Шиллером, Бальзаком и Гюго до его поздних интересов к Флоберу и Эмилю Золя (которого он одновременно отвергал и принимал) — Достоевский превосходно знал всех корифеев европейской литературы. В музеях Запада его поразили мастера итальянского Ренессанса, а Ганс Гольбейн-младший и Клод Лоррен вдохновили на великие искусствоведческие страницы «Идиота» и «Подростка». В Милане, Кёльне и Париже он был поражен образцами готического зодчества. Его преисполнил восхищением Бетховен. Так (всю жизнь действовал на Достоевского этот мир искусств, гак вдохновляла его эта «страна святых чудес», которой он воздает в своем последнем романе устами Ивана Карамазова такую пламенную хвалу.