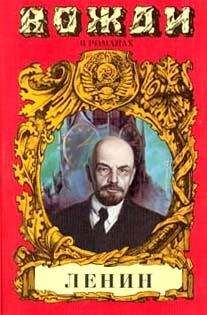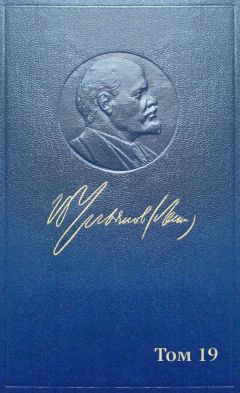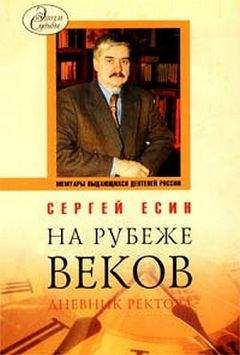Приехав в Москву, в ту пору перенаселенную и тесную, Воробьев останавливается у старого знакомого — Збарского. Это обычная практика тех лет — останавливаться не в гостинице, а у родственников или знакомых. Спанье на полу, на раскладушках, на стульях, ужин под абажуром. Интрига вступает в свою завершающую фазу.
Сорокавосьмилетний Воробьев прибыл в Москву и пробыл здесь до 12 марта. Он участвовал в нескольких осмотрах тела Ленина и в трех или четырех совещаниях: одно у наркома здравоохранения Семашко, другое вел Дзержинский, было еще совещание у Красина.
Осмотры Воробьева удручили. Шел закономерный процесс высыхания организма «от химических и физических причин», сыграло свою роль и чудовищное переохлаждение во время прощания на Красной площади. На совещании у Дзержинского в Кремле, куда были приглашены другие виднейшие ученые и как «группа поддержки» идеи Красина — Збарский, осторожный Воробьев высказал предположение: «Тело обречено на высыхание и искажение. Его можно сохранить, только полностью погрузив в бальзамирующую жидкость. При этом изменения будут заметны только для тех, кто его близко знал, но для тех лиц, которые будут приезжать из дальних областей, облик его сохранится настолько, что они всегда узнают знакомое им лицо Владимира Ильича». (Стенограмма этого совещания сохранилась.)
Предложение было совершенно нереальным. Оно подразумевало некий стеклянный саркофаг, похожий на аквариум, закрытый стеклянной крышкой. Не вполне ясна была и второстепенная, но существенная деталь: как поведет себя, не даст ли «искажений» в жидкости одежда.
На втором совещании внезапно, повинуясь какому-то импульсу, Воробьев, несмотря на советы и домашние заготовки Збарского, практически поддержал предложение Красина. Другие ученые в этот момент говорили о разрыве тканей и клеток. «Да, при температуре минус 10-12 градусов по Цельсию тело не будет изменяться». Збарский, сжав зубы, промолчал. Ситуация казалась проигранной.
Однако сверхосторожный Дзержинский и на этот раз колеблется. Что бы ученые ни говорили — отвечать ему. Дзержинский, если не знает, то догадывается, сколько надежд с этим проектом связывает Сталин. Дзержинский представляет колебания, которые может испытать режим со смертью Ленина. При небытии — пролонгированное участие: из гроба Ленин продолжает руководить и расставляет по местам своих учеников. Сталин во время похорон недаром клялся мертвому телу. Теперь должен появиться объект-символ для клятв. Все они заложники этого проекта. Действовать надо наверняка, а пока он потянет время.
Приняли паллиативное решение: удалить внутренности, покрыть лицо и кисти рук, чтобы хоть как-то предотвратить высыхание, вазелином.
Дома вечерами у хозяина, Збарского, и гостя, Воробьева, идут за накрытым столом баталии. Збарский пытается уговорить Воробьева рискнуть и взяться за трудную задачу. Збарский — везунок и уверен, что проскочит и здесь. За рюмкой он «нажимает» на своего харьковского гостя. Есть ответы Воробьева: «Вы сумасшедший и можете себе ломать голову, если хотите. Я ни в коем случае на такое явно рискованное и безнадежное дело не пойду, а стать посмешищем среди ученых для меня неприемлемо». Это означает конец честолюбивых амбиций Збарского.
И все же энергичный москвич не сдается. Збарский заходит то с одной, то с другой стороны, но для профессора из Харькова важно сохранить то, что у него есть. Профессор привык к размеренной академической жизни, у него есть любимое дело, он мечтает составить полный анатомический атлас. В спорах со Збарским этот немолодой трусоватый сибарит вспоминает даже какие-то исторические аналогии. «Мой вам совет, — говорит он, отбиваясь, Збарскому, — бросьте вы эту пустую мысль, а если вы в это дело впутаетесь, вы погибнете. Я не хочу уподобиться тем алхимикам, — голос поднимается до патетики, — которые согласились бальзамировать тело папы Александра VI, выудили деньги, загубили тело и скрылись, как последние жулики». — «Зачем вы тогда приехали?» — кричит Збарский. «Меня вызвали, я сам ничего не предлагал», — правдиво возражает несчастный профессор.
Сначала: «нет», «нет», «нет», а потом — «подумаем»: некоторые обнадеживающие соображения по поводу ситуации Воробьев все же имеет. Постоянные дискуссии, настойчивость Збарского и сосредоточенность в Москве на одном предмете заставляют его взвесить: так ли вся эта авантюра безнадежна?
Профессор, хотя и не мздоимец и не честолюбив, чрезвычайно дорожит репутацией и начинает понимать, что среди московских и ленинградских светил и он не лыком шит. Ему начинает казаться, что он здесь далеко не последний. Жизнь в провинции, лишенная напряженных светских отношений, дает время. Время позволяет заниматься наукой. Профессор — теоретик, всю жизнь занимавшийся практикой. Во время встреч с коллегами он осторожничает, не очень хочет выдавать своих наработок. Иногда к сердцу подступает честолюбивая волна. Он уже почти все решил.
Сдается он только на последнем совещании у Красина, скорее проговаривается: «Необходимо обработать тело тремя способами: ввести бальзамирующую жидкость через сосуды. Погрузить тело в жидкость, а в труднодоступные места ввести раствор путем инъекций». Конкретно? Слишком конкретно. Из этих его слов нечто следует. Специалисты, как по следу, дойдут до искомых результатов. Профессор уже увлекся и забыл играть роль провинциального недотепы. «Вынуть тело — раз, удалить всю жидкость — два, подвергнуть тщательной прочистке все тело, промыть, если это возможно, все сосуды, кроме головы, для того, чтобы удалить отовсюду кровь, заменить эту жидкость, которая в данный момент там находится, спиртами, удалить предварительно хлористый цинк, вычистить тщательно внутренние органы, а по отношению к глицерину применить способ препарирования глицерином».
Профессор высказался, а дальше пусть разбираются высоколобые московские мудрецы. Все, сегодня он уезжает в родной Харьков!
Одним из последних выступал профессор Дёшин. Его слова больше, чем чьи бы то ни было, удовлетворили Красина. Вот пусть Дёшина и слушаются. Провинциалы умывают руки. Тоже мне новость предлагает специалист: «Где немножко впрыснуть, где немножко помазать, где ввести формалин, но если все это будет недостаточно, то остается единственный способ — заморозить». На этом, собственно говоря, совещание и закрыли.
В Сенатской башне продолжались работы.
Но Збарский не был бы Збарским, талантливейшим организатором, привыкшим преодолевать все трудности и приникать к любому выгодному сотрудничеству, если бы у него не был готов новый план, прекрасно, но на другом уровне дополнявший первый. Заход с фланга. Воробьев, конечно, гениальный специалист, но ничего не смыслит в жизни. Он и не представляет, что может дать и какие привилегии открывает участие в работе. Ведь дело не может закончиться — если оно, конечно, успешно пройдет — так сказать, торжественным завершением, победным финишем, после которого только сладкие лавры. Збарский, как никто, отчетливо понимает, что всю эту сложнейшую биологическую конструкцию, находящуюся в неустойчивом равновесии, придется поддерживать все оставшееся время, наблюдать и контролировать. Контролировать и наблюдать. Будет появляться масса технических трудностей, их надо будет кому-то преодолевать. Он, Збарский, готов к этой работе. Обязательно возникнет, даже не наверное, а скорее всего, наверняка, некий существенный штат сотрудников, организация. Ближайшее же соприкосновение с величайшей святыней даст и безопасность, и влияние, и огромные, на самом верху, связи. Ему, Збарскому, нет еще и сорока, упрямый Старик не должен лишать его перспектив в жизни. Это золотое дело обязательно надо «добить», тем более, что, судя по словам самого Воробьева, пересказавшего Збарскому последнее совещание, профессор уже ассимилировался с «объектом» и, главное, выносил некий план. Научный план пропадать не должен. Збарский просто обязан послужить державе и революции.