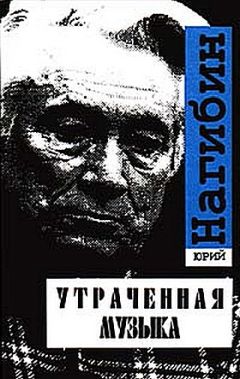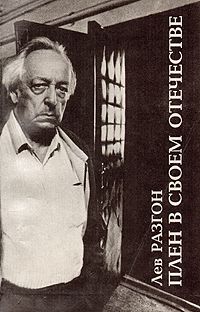Кончились праздники – а разве они были? Просто – сбился человек на рассеянном и полупьяном своем пути, а сейчас тоже сбился, но в иную сторону. Да и с чего сбился-то? Что-то очень давно не подмечал я тропки под ногами. Да и была ли тропка? Может, никакой тропки и не было?
Бывает лишь счастье найденной фразы, и еще большее – счастье найденной формы. Форма – это вовсе не внешнее, это ключ постижения. То, что не записано, не существовало. Незаписанные встречи, чувства, боли, радости – да их вовсе не было в моей жизни, а запись в дневнике очень-редко дарит существование пережитому. Вечную жизнь дает лишь форма. Форма же одновременно и проверка пережитому. Добросовестно, сильно и ярко пережитое легко находит свою форму. Я никогда не сомневался в качестве таких переживаний моей жизни, как брак с Машей, фронтовые мытарства, страх войны, Маринка и почти всё детство. Ценность их подтверждается легкостью, с какой они обретали форму на бумаге. Верно, что мой второй брак был лишен любви, он не рождает и не поддается форме. Хотелось бы многое проверить этим.
Литературная бездарность идет от жизненной бездарности. Ну, а как же с людьми нетворческими? Так эти люди и не жили. Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении с художником. Когда я говорю о том, что мною не было записано, мне кажется, что я вру…
30 августа 1949 г.
Прошла сквозь жизнь еще одна ненужность: Алушта. Однообразен ключ последних лет моей жизни: водка и бабы. «Выпил пол-литра,… бабу»,- и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Вот к чему свелась жизнь – дар
и тайна Божья. Вот для чего я, двухклеточный, сопротивлялся усилиям матери, докторов, яду лекарств – всем попыткам задушить меня в первооснове. Наверное, у меня была тогда какая-то великая цель, если ни горячая ванна, ни касторка, ни хина, ни злые массажи, ни искусственные падения ничего не могли поделать с двумя слипшимися, лишенными всякой защитной оболочки клетками. Была эта цель и впоследствии, когда я, многоклеточный, уже не рыба, и не кролик, а сын человеческий, сопротивлялся золотухе, желтухе, воспалению легких, кори, ангине, гриппу, желудочным болезням, стремясь выжить во что бы то ни стало. Мне кажется, что эта цель, ставшая осознанной, сохранялась у меня, двадцатилетнего, когда я оберегался от жизни для единственно настоящей жизни на бумаге.
Теперь эта цель утратилась, и я с изумлением обнаружил ядовитость окружающих людей. Прежде люди скользили по моей душе, нанося царапины не более глубокие, чем карандаш на бумаге, а сейчас они топчутся внутри меня, как в трамвае. С признанием серьезности и подлинности окружающих людей утрачивается единственная настоящая серьезность – собственное существование. Любовь к людям – это утрата любви к себе, это конец для художника.
Сейчас я стал таким же, как все – тепловатый, любящий, озабоченный и несерьезный. Цели-то нету.
О П. Селезневе – сын ларёшника, поднявшийся до вершин формальной логики.
О Коварском – Иов малоформизма.
О Кожевникове – Галилей, вбежавший в застенок инквизиции с криком: «А все-таки она не вертится!»
Я так давно не писал, что единственная форма, в какой я сейчас мог бы писать, это вопль Хемингуэя в рассказе «Снега Килиманджаро», вопль о том, что он не написал о том-то, о том-то и о том-то. Перечень с обозначениями – на большее не хватит. Нельзя позволять событиям жизни перехлестывать друг друга. Сперва рассчитаться на бумаге с одним, и лишь тогда приниматься за другое.
8 сентября 1949 г.
У Старковских. Петр Иванович* был не по-актерски естественен и прост,- из-за некоторой неловкости и натянуто-
____________________
*Дядя моей жены Е. К. Черноусовой, мейерхольдовский актер.
49
сти. Затем позвонила из Минска любимая дочь Галя. И от радости, от вмиг прорвавшейся душевности, от безыскусственного родительского чувства Петр Иванович заговорил так, как я и ждал от него: с могучим актерским пафосом, с знаменитыми модуляциями в лучших традициях «дома Щепкина». Король Лир, Капулетти, Протасов и другие прославленные сценические образы заговорил его устами. На придыханиях, спадах и раскатах неслось:
– Дитя мое… Солнышко…
Самое поразительное, что Анна Степановна, с жалко-бытовой речью портнишки, тоже обнаружила сохранившийся под напластованием лет трагический дар.
И не было больше бедной комнаты – притихший сумрак зрительного зала, и мы, восхищенные зрители, наблюдающие прекрасное рождение естественности в образе театральной декламации.
Хочется писать о чем-то первостепенном, но всё происходящее, встречающееся и видимое, даже заинтересовав в первый момент, с приближением к бумаге начинает казаться чем-то неважным, провинциальным, второстепенным. Наверное, это плохо, хотя и объяснимо.
Сейчас я, главным образом, в снах определяю свое отношение к окружающему, свожу с ним счеты. Оттого, что я мало и редко пишу, я нахожусь с миром в каких-то, до тупости простых отношениях. Только в снах появляется сложность, тонкость и вместе – высокая простота боли.
19 сентября 1949 г.
Угнетающее сознание собственного душевного огрубления. Особенно остро это почувствовалось на проводах М. Залегкомысленничал всё это то ли из самозащиты, то ли из душевной иссушенности.
В чем причина? Когда не можешь писать о страшном, жить этим страшным всерьез, начинаешь обороняться от него. Видно, я дозащищался до полной пустоты. Пустоты отнюдь не трагической, уютной, как подмышка, гнусненькой, как засаленная постель, комнатной пустоты.
Мужики в окопах грозились: «Вот зададим мы перцу бабам!» Приехали с войны, а силенок уж нет. Как бы и со мной так не случилось.
И еще – страх. Вот, пожалуй, самое неживотворное чув-
ство. Из всего могут родиться слова: из грязи, пороков, ошибок и запоздалых раскаяний, но только не из страха. Даже из сильного, но короткого страха может что-то возникнуть, но не из постоянного, ровного, душного, как перина. А этот год так насыщен страхом, что даже не такая жалкая душа, как у меня, и та бы съежилась.
Читаю Светония. Цезари отнюдь не являют собой исключительности. Самые обычные мещане, поставленные в условия полного раскрытия своих характеров, страстей, темпераментов, вожделений. Насколько сильно заложено в человеке стремление до конца развернуть свой характер, если однообразно-плачевные судьбы римских властителей никому не послужили предостережением. В том-то и страх, что это самые обычные люди, которым до поры позволено все делать.