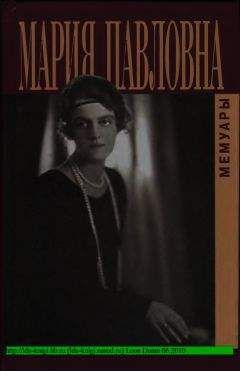Дядя Сергей полагал, что он занимается нашим воспитанием. Он лично вникал в малейшие детали нашей повседневной жизни. Он любил нас, несомненно, хотел нам добра, но, увы, его трогательные усилия часто имели прямо противоположный эффект. Он обладал деспотичным характером и был чрезмерно ревнив.
Обособленность, в которой всегда жили я и Дмитрий, стала теперь еще большей. Пару раз госпожа Лейминг обращалась к дяде с просьбой позволить нам обедать у них, но всякий раз он с таким явным неудовольствием давал на это разрешение, что она не осмеливалась обращаться еще. Так постепенно мы становились все более отрезанными от всех и более одинокими.
Думаю, что общей заботой в ту пору была политическая ситуация на Дальнем Востоке и вероятность войны с Японией. Но с нами о том разговоров не вели. Помню только, что в конце января 1904 года, когда война была объявлена, мы пошли с дядей Сергеем в Успенский собор Кремля, где состоялось торжественное богослужение, и я слышала голос протодьякона, глубокий и дрожащий от волнения, когда он зачитывал манифест царя.
Сначала война шла успешно. Каждый день толпа москвичей устраивала в сквере напротив нашего дома патриотические манифестации. Люди в передних рядах держали флаги и портреты императора и императрицы. С непокрытыми головами они пели национальный гимн, выкрикивали слова одобрения и приветствия и спокойно расходились. Народ воспринимал это как развлечение. Энтузиазм приобретал все более буйные формы, но власти не желали препятствовать этому выражению верноподданнических чувств, люди отказывались покидать сквер и расходиться. Последнее сборище превратилось в безудержное пьянство и закончилось швырянием бутылок и камней в наши окна. Вызвали полицию, которая выстроилась вдоль тротуара, чтобы преградить доступ в наш дом. Возбужденные выкрики и глухой ропот толпы доносились с улицы всю ночь.
С самого начала нечто подсказывало мне, что эти манифестации добром не кончатся, и хотя мне было только тринадцать лет, я высказала свои соображения на этот счет одному из дядиных друзей. Я считала, что толпа использует патриотические чувства лишь как предлог для беспорядков, и власти неправильно делают, что не вмешиваются. Даже тогда я понимала, что толпой управляет смутный
инстинкт, ее поведение непредсказуемо и всегда опасно. Но мой слушатель не оценил высказанных суждений, он был шокирован услышанным и тут же сообщил все дяде, который строго отчитал меня.
Он на полном серьезе увещевал меня, что глас народа — глас Божий. Толпа, по его убеждению, демонстрировала монархические чувства в своего рода религиозной процессии. А мое недоверие к настроению толпы, сказал он, проистекает из за отсутствия уважения к традициям.
Этот инцидент заставил меня о многом задуматься. В моем детском мозгу стали возникать мысли, которых никогда прежде не было, и я вглядывалась в окружающее с возрастающим вниманием. Я ощутила беспокойство, которое незаметно овладело мной.
2С войной в нашем кругу возникли новые виды деятельности. Тетя Элла занималась организацией госпиталей в Москве. Она отправляла полевые госпитали и перевязочные пункты на фронт, создавала комитеты для вдов и сирот войны, устроила в Кремле склад, куда со всей Москвы собирали белье и перевязочные средства. Масштабы этой деятельности возрастали, скоро разные отделы заняли все дворцовые холлы. Я нашла себе отдушину, приходя сюда работать по воскресеньям. Когда в Москву начали прибывать раненые, тетя часто навещала их. Иногда она брала с собой меня. Мы целые дни проводили в госпиталях.
Поначалу общество спокойно восприняло войну, поскольку никто не верил, что японцы могут собрать боеспособные силы. Но шли месяцы, а наши войска не одерживали победы; воина скоро стала непопулярной, росло общее недовольство. Обязанностей у дяди прибавлялось, и мы видели, что он очень обеспокоен. Как всегда, мы ничего не знали о том, что происходит. Политические разногласия не проникали в нашу классную комнату, в нашем присутствии не позволялось вести разговоров на серьезные темы. Мы смутно ощущали некоторую тревогу и нервозность в окружающем, и то лишь потому, что были чрезмерно любопытны. Зима 1904 года оказалась последней, когда в моем обучении руководствовались хоть какой то системой.
Лето 1904 года было отмечено радостным событием, рождением несчастного цесаревича. Россия так долго ждала наследника, и сколько уж раз надежда эта оборачивалась разочарованием, что его появление на свет было встречено с энтузиазмом, но радость длилась недолго.
Даже в нашем доме воцарилось уныние. Дяде и тете, несомненно, было известно, что ребенок родился больным гемофилией, заболеванием, проявляющимся в кровоточивости из за неспособности крови быстро свертываться. Конечно же, родители быстро узнали о природе болезни сына. Можно представить, каким это стало для них ужасным ударом; с этого момента характер императрицы начал меняться, от мучительных переживаний и постоянного беспокойства здоровье ее, как физическое, так и душевное, пошатнулось.
Вместе с дядей и тетей мы поехали в Петергоф на церемонию крещения цесаревича. Золоченая карета, за которой следовал кавалерийский отряд, доставила новорожденного в церковь. Его сопровождали няня и гофмейстерина. С раннего утра вдоль пути следования были выстроены полки; кортеж состоял из множества парадных карет, запряженных богато убранными конями.
В одиннадцать утра императорская семья и придворные были готовы: мужчины в полной парадной форме, женщины в драгоценностях и затканных золотом и серебром парадных платьях с длинными шлейфами. Император, великие князья и княгини, послы и высшие сановники образовали процессию, они шли в дворцовую церковь по заполненным гостями залам. Во главе процессии на подушке из серебряной парчи гофмейстерина несла маленького царевича. Церковь сияла светом. При входе многочисленное духовенство во главе с архиепископом Петербургским приветствовало императора. После окончания церковного обряда ребенок был доставлен домой с тем же церемониалом. Поздравления и банкет продолжались до вечера.
В честь армии, ведущей тогда боевые действия на просторах далекой Маньчжурии, все сражающиеся были записаны приемными отцами юного царевича.
То лето в Ильинском тянулось долго и проходило довольно скучно, да и после того, как осенью мы перебрались в Усово, ничего памятного не произошло. Возможно, поэтому один, можно сказать, заурядный случай произвел на меня глубокое впечатление. Однажды воскресным утром, когда слуги пришли в дом выполнять повседневную работу, они обнаружили, что ночные грабители похитили большую часть столового серебра. У меня мурашки по спине пробежали, когда я увидела оставленные ворами следы. Они даже ели в той комнате, где мы провели вечер, после чего спокойно курили: были крошки табака и несколько забытых сигаретных бумажек. Они спокойно разбили окно, чтобы уйти, и на снегу были видны их следы.