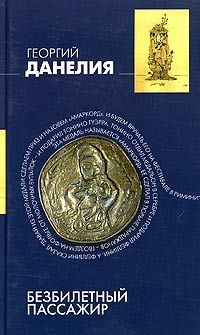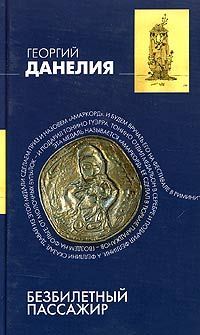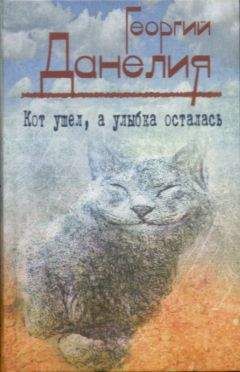Ознакомительная версия.
Женька часто оставался один. Можно сказать с еще несмышленого возраста. Никто толком не знал, как это произошло, но говорили, что мать в очередной раз оставила его без присмотра, выскочив в магазин. Младенец потянул на себя клеенку, на которой стоял керогаз. Тот упал со стола прямо на ребенка. Волосы его тут же вспыхнули. Он закричал. На счастье сосед пришел на обед с работы, услышал крик и спас Женьку. Но навсегда осталась метка у мальчика на обожженном виске, незаметно прикрываемая курчавым смоляным чубом. Женька вырос, стал стоматологом, однако взрослыми мы почти не общались. Так – пару раз повстречались в метро и только. Дом-то наш расселили, потом снесли.
Перед глазами осталась картина: дедушка Витя и Женька на сундуке, и слова в темноте коридора: «Женя Бачулис, иди, ступай, завтра придешь!..» И Женька уходит. И больше не придет никогда!.. Кто бы знал! Женька, Женька…
Теряя друзей, мы взрослеем. Но память, наша память навсегда оставляет их там, куда зовет нас безжалостная ностальгия. Ностальгия по Родине. Куда бы не забросили меня земные пути, куда бы не унесли устремления моего сознания, я всегда возвращаюсь. Возвращаюсь, чтобы не заблудиться среди людей и пространств, чтобы не предать себя, возвращаюсь по звездам воспоминаний. Я устал, я падаю на пороге. Вот он – мой дом, моя семья, моя Россия. Господи, дай нам силы!
Лихие опричники у Кремлевской стены, из тени в свет уходящего солнца, отраженного на морозном снегу – картинка, ушедшая в подсознание из книжки, которую читает мне дедушка на сон грядущий. Не помню названия, не помню автора, помню время – Ивана Грозного. Колокольный звон и гудки паровозов за окнами. Запах тепла и праздничных пирогов в зимней квартире. Заброшенные усадьбы подмосковного лета. Могилы Щепкина и Грановского на Пятницком кладбище. Полуразрушенная, забитая церковь с надгробиями князей Голицыных в селе Николо-Урюпино. Бунинские просторы. Чеховские мечты. Гоголевские абсурды. Надрыв Достоевского. Пушкинское «Мороз и солнце – день чудесный!..» И многое, многое, многое, без чего не могу – Родина.
Гладко пишется. Как бы не впасть в графоманию. Мне сызмальства нравилось водить пером. Еще в школьные годы нет-нет да и срывал я лавры за свои иронические сочинения на уровне класса, а то и педагогического коллектива. Поднимай выше. Бог знает куда бы это могло завести, если бы не лень. Лень всегда спасала меня.
Знаю, знаю, очень многие во всех бедах винят лень, а я ее прославляю. Стремлюсь, как только покончу с делами, тотчас к инструменту, к дивану. С дивана многое «дельное» кажется суетой. Диван дает передышку, «отстранение», отрезвление от дел. Для меня жизнь не в делах, а в поступках. Поступку же предшествует умозаключение. И вот тут уж одним своим умом не проживешь, тут посоветоваться надо с предчувствием, с подсознанием. Помечтать, потянуться на диване, помедитировать, полениться. Прозрение, изменение собственного сознания для меня поступок наиважнейший. Дела идут вслед, догоняют. Потом встал с дивана и, как говорится, «с Богом!».
Родители не только обожали, но и довольно хорошо знали и театр, и кино, как зрители. Однако, поощряя в принципе актерские склонности сына, все же считали, что лучше бы мне быть филологом, спокойнее как-то, увереннее, предсказуемее. Потому и наняли для меня частного педагога по литературе. Им был Борис Наумович Лондон. Яркий человек, можно сказать светило на небосклоне московского учительства. Ну и, разумеется, тоже влюбленный в театр. Борис Наумович привел меня в драматический театр им. К. С. Станиславского. В молодежную студию при театре, где он читал курс русской литературы. Свершилось. Куклы остались дома. Я вышел на человеческую сцену, выдержал экзамен, меня приняли.
Недавно, проходя мимо Манежной площади, со мной поздоровался какой-то прохожий. Из своих пятидесяти трех лет я вот уже 36 лет живу публичной жизнью, то есть меня узнают на улицах, в транспорте…
Поначалу мне это было ужасно смешно, просто еле-еле «держал серьез», чтобы не рассмеяться в ответ, затем привык и даже в определенной мере автоматически отвечаю на приветствия зрителей. И в данном случае я было ответил также полуавтоматически, но прохожий настойчиво остановил меня и предъявил вылинявшее, затертое удостоверение студийца театра Станиславского. Поразило, что он не только сохранил его, но и постоянно носит с собой. Актером не стал. Стал журналистом. Денег не нажил. Любит выпить. Юмора не теряет и хранит вместе с удостоверением неподдельный восторг тех юных, богемных лет. Мы простояли с ним, не замечая времени, часа полтора. Идеализировали тот восторг сквозь грусть реального опыта. Когда мы спускались на занятия в свой подвал по соседству с зрительским туалетом или поднимались в пропахший красками, лаками, древесной стружкой холодный зал декорационного цеха – на втором этаже подсобной пристройки, мы бросались в ад честолюбивых вожделений и взмывали в эйфорию случайного вдохновения, мы чувствовали себя на седьмом небе. Мы – это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Александр Пашутин, Саня Лахман, Лиза Никищихина, Яша Пакрас, Саша Кобозев… Всего около тридцати человек. Саша сыграл тогда главную роль в фильме «Друг мой, Колька» и был предметом нашей особой гордости. Руководили студией режиссер Александр Борисович Аронов и актер Лев Яковлевич Елагин. Они приглашали к нам интересных людей – поэтов, писателей, бардов. Помню молодого Роберта Рождественского и сценический вариант его «Реквиема», который мы ему «сдавали». Помню еще только становящегося известным Булата Окуджаву и его импровизированный концерт в нашем декорационном зале. Помню долгожданную встречу с Михаилом Михайловичем Яншиным, народным артистом СССР, актером МХАТа и главным режиссером театра Станиславского. Не помню, о чем он говорил с нами. Только: «Я в детстве был пышечкой, любил много покушать, а теперь у меня рожа-рогожа, ни на что не похожа». Осталась в душе его интонация. Большой артист – всегда тайна. Может быть, даже и для него самого. Большой артист – всегда особая интонация, неповторимая, присущая только ему одному. Тот же Яншин в экранизации чеховского рассказа «Сапоги», в роли настройщика Муркина: «Я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать». Сколько уже было киноверсий этого рассказа, но подлинный Муркин один единственный – тот, яншинский. Или, скажем, еще одна тайна: Петр Мартынович Алейников: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался…» в «Трактористах». Его же присказка из фильма «Семеро смелых»: «Во, брат, как!» Чего особенного в этом «Здравствуй, милая моя», в «Во, брат, как!» – но годы прошли, а ведь помним, ликуем. Кстати, Чарли Чаплин – Чарльз Спенсер Чаплин – считал Алейникова одним из великих актеров мирового кино. И я с ним согласен – во, брат, как! Алейников, его интонация, вибрация его души настолько жила в сердцах зрителей, что, когда он только выходил на сцену стадиона (а именно на стадионах проходили обычно встречи со зрителем артистов кино в советское время), народ вставал и приветствовал его нескончаемыми овациями, не давая ему буквально рта раскрыть, а он благодарил, плакал и повторял только: «Ну так же нельзя!»
Ознакомительная версия.