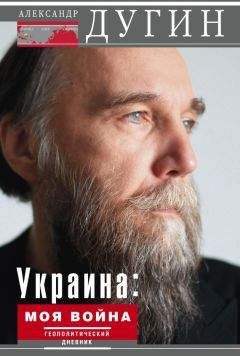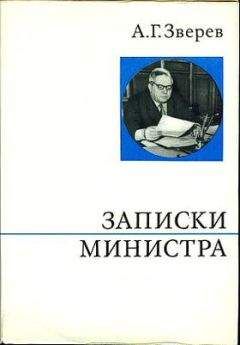Он говорил это не с трибуны, только для меня. Я знал, что он говорит правду, потому что видел, как живет его семья. Именно такие люди через героические усилия и лишения сформировали предвоенный промышленный комплекс, победили фашистов, восстановили народное хозяйство. Я видел, как они тихо и незаметно уходили из жизни, унося с собой старую идеологию. На их могилах ставили простые красные звезды. Но думаю, некоторые их соратники вздыхали с облегчением, ибо их бескомпромиссность, твердость и убежденность очень мешали жить тем, кто пришел им на смену, представителям новой формации, для которых все убеждения их предшественников представлялись полезной ширмой, которой можно было прикрыть свое новое качество жизни.
А через какое-то время и эти переходные фигуры сменились людьми без всяких комплексов, для которых такой вот Иван Григорьевич выглядел нереальным, нежизненным персонажем. Я относился к Ивану Григорьевичу с громадным уважением. К тому времени я уже четко представлял себе, что не количеством диванов измеряют уют в семье, что можно жить радостно и счастливо, имея в квартире железные кровати, и, судя по образу мыслей Ивана Григорьевича, как раз «личные диваны» могли бы разрушить его гармонию жизни.
Я много размышлял над теми вопросами, которые ставил Иван Григорьевич. Как совместить стремление к лучшей, более комфортной жизни с категорией «равенства»? Как категорию «равенства» совместить с тем, что все люди разные и мир очень разный? Мы с ним так и не нашли ответов на эти вопросы, и думаю, что за те пятьдесят лет, что прошли со времени наших разговоров, никто так и не ответил на них. А то, что произошло в реальной жизни — мы знаем. И очень хорошо, что такие, как Иван Григорьевич, не увидели всего этого.
На моих глазах, на глазах моего поколения произошла удивительная трансформация руководителей разного уровня советской эпохи. Революционное, послереволюционное, послевоенное поколение руководителей, я уже применил для них обозначение «старые большевики», сменилось в 50—80-е гг. прошлого столетия переходными фигурами — «членами партии — коммунистами». Эти люди произносили те же лозунги, проводили те же мероприятия, частично верили в то, что говорили, а по большей части не верили. Они уже стремились сделать жизнь лучше не только для всех, но и для себя лично.
И в этом крылось их серьезное отличие от аскетов предыдущего времени. Брежнева, Черненко уже не сравнить со Сталиным, оставившим для своих детей поношенную шинель и стоптанные сапоги. Но и Горбачева уже не сравнить с Брежневым, после которого осталось больше разговоров на эту тему, чем реальной имущественной роскоши. «Членов партии — коммунистов» сменили реформаторы, перестройщики. Именно из них сформировалась колонна разрушителей, яростно ненавидевших тот строй, ту идеологию, благодаря которой они поднялись из самых низов общества к вершинам власти. Это Горбачев, Ельцин и им подобные.
Все они — секретари ЦК, обкомов, горкомов, заведующие кафедрами научного коммунизма. При них весь громадный бюрократический каркас, который не давал жить и развиваться великой стране, сковывая придуманными идеологическими догмами экономику и жизнь, рассыпался и развалил не только экономику, но и всю страну. Он, как оказалось, был проржавевшим и ветхим, этот каркас. Он давал возможность людям, поддерживавшим его, жить безбедно. Но как только появилась возможность вырваться и пуститься в свободное плавание, они с готовностью это сделали.
Наверное, сам Геббельс позавидовал бы их риторике, той гневной эмоциональности, с которой бывшие активные проповедники марксизма-ленинизма разоблачали свои прежние взгляды и убеждения. Было что-то мерзкое, очень неприятное в их поведении. Я никогда не был партийным функционером, никогда не стремился вступить в партию. Выросший в условиях хрущевской оттепели, я нетерпимо относился к догмам, видел их парализующее влияние на жизнь и экономику.
Вспоминаю такой эпизод. Мы дружески беседовали с управляющим трестом Георгием Павловичем Мельниковым в его кабинете. Кроме нас двоих там присутствовал молодой человек, как потом выяснилось, наш куратор из КГБ. Он-то впервые и задал мне вопрос, являюсь ли я членом партии. Я необдуманно ответил: «Нет, конечно». Сразу же последовал уточняющий вопрос: «Почему — “конечно”?» Я не знал этого человека и поэтому сразу же сообразил, что вопрос задан неспроста. Обычного человека вряд ли бы это заинтересовало.
Разумеется, я ответил, что еще молод и не заслужил такой чести. Вопрос был исчерпан. В 1982 г. к этому вопросу меня вернул директор института, где я работал, Павел Дмитриевич Романов. Он вызвал меня и спросил, почему я не подаю заявление о вступлении в партию. Я ответил примерно так же, как и в первый раз, однако Павел Дмитриевич был не из той категории людей, которых удовлетворяют пустые ответы. «Ты кончай дурака валять, я думаю в обком список резерва отправлять. Поставить некого, а ты ерундой занимаешься», — заявил он достаточно категорично. Я с большим уважением относился к нему и в 1983 г. подал заявление.
Кстати сказать, интеллигенцию не очень-то охотно принимали в КПСС. Существовали свои квоты для рабочего класса, колхозников, военнослужащих и представителей интеллигенции. Это была одна из глупых норм, придуманных партаппаратчиками, которая позволяла им всегда и во всех случаях иметь управляемое большинство в органах коллективного управления партией. Но эта же норма резко снижала интеллектуальный уровень управления и не давала развиваться как партии, так и стране в целом. Она сосредоточивала всю власть в узкой группе руководителей высшего звена.
Когда в решающий момент руководство пошло на некоторую демократизацию партийной жизни, то, поскольку вся система была к этому не подготовлена и, самое главное, простые люди не имели опыта и не сразу отличили демагогию от демократии, последствия этой непродуманной реформы были ужасными. В число реформаторов вошли прежде всего те, кто всю свою жизнь давил и уничтожал всякие проблески демократии. Странно, но им поверили.
Рассказывая о своей жизни, я часто отклоняюсь и рассуждаю об общей ситуации в стране. Мне кажется, что это закономерно и понятно. Менялась страна, менялся и я. Помимо общей обстановки необходимо рассказать и о руководителях, с которыми меня сталкивала жизнь. Я с ними работал, учился у них. Почти восемь лет мне довелось работать с Павлом Дмитриевичем Романовым. В отличие от прежних моих начальников он был руководителем совсем другого типа.
Он пригласил меня на работу в крупный угольный институт для организации лаборатории, а затем и отдела шахтной сейсмоакустики. Павел Дмитриевич отнюдь не был трудоголиком, напротив, он был сибаритом, любящим жизнь, хорошую компанию. Его любимыми выражениями были: «Что ты ко мне со всякой чепухой лезешь?» или «Не забивай мне голову всякой ерундой». Иногда последние слова звучали еще более круто. Но смысл их был такой: «Иди к заму и решай». Такая система приводила к тому, что к директору института шли только по крайней необходимости и только тогда, когда заместители категорически отказывались решать те или иные вопросы.