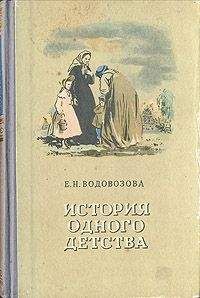По возвращении в Петербург отец рассказал об этом эпизоде своим друзьям и сослуживцам; сыновей же он не хотел волновать. Он с этого дня как-то осунулся, а на третий день слег в постель, чтобы больше не вставать. Сильный, энергичный тридцатисемилетний мужчина скончался в конце июня 1847 года (точная дата смерти В.И. Дубровина – 22 июня 1847 г. – Прим. ред.). В бреду он говорил о жандармах, о преследовании, призывал государя, который оставался ему одною надеждою на лучшее будущее. Друзья его передавали матери прямо, что жандармский чиновник категорически ему объявил решение своего шефа и сделал ему окончательное внушение, что он живой не увидит государя; другие заходили в своих предположениях дальше, утверждая, что отец был отравлен. Одно скажу, что когда покойная мать в 1848 году сама лично со своею старшею сестрою, в том же саду в Петергофе и на этом же месте подала прошение Императору Николаю, он, приняв его, передал сопутствующему его адъютанту; мать же с ее сестрою Болотовою попросили в какое-то помещение, а всесильный шеф жандармов Орлов позвал их в свою канцелярию и стал делать выговор, зачем беспокоить государя, когда дело в Сенате и кончится беспристрастно. Мать, убитая горем и не успевшая попросить государя прочесть самому прошение, даже не слушала, что говорил граф Орлов; но сестра ее остановила его следующими словами: «Довольно, граф; сколько бы дело ни тянулось в Сенате, вы не успеете нас всех уморить, как уморили покойного зятя». Слова эти поразили, как видно, всемогущего графа, а его подчиненные поспешили один за другим выйти. Конечно, и это прошение не было доложено покойному императору.
На погребении отца ни деда Непейцына, ни деда Азанчевского, ни Хрущова (скорее всего, речь идет о Михаиле Николаевиче Хрущове (1786 —?), полковнике Смоленского полка, сыне Н.Я. Хрущова и П.П. Стахеевой. – Прим. ред.) не было; все уехали на лето из Петербурга. Только один товарищ отца майор Подрезов (без руки) и два сына: один кавалерийский подпрапорщик и другой воспитанник Неймана (живущий ныне со мною, контуженный в голову в Севастополе, бедный, сумасшедший) провожали отца на Волково кладбище (имеются в виду Николай и Иван Владимировичи Дубровины. – Прим. ред.). Незадолго до его смерти сосед по имению (граф Келлер), также потерпевший, но не начинавший дела с могущественными соперниками, дал отцу триста рублей серебром; на эти деньги его и хоронили. В то время телеграфов не было, да и на почту посылали мы за 80 верст, а потому известие о смерти отца пришло к нам только через месяц. Отца я не видала более двух лет; но отчаяние и слезы матери, сожаление и участие знакомых и это печальное и трогательное происшествие со всеми его последствиями, трауром, панихидами и причитаниями людей «бедные сироты», сильно подействовали на меня, восьмилетнюю девочку, и, не отдавая себе отчета, я чувствовала всю горечь людской неправды.
Конечно, горе наше было глубокое и поражающее; но нужно было все-таки прийти к какому-нибудь решению. После долгого обдумывания мать, подкрепляемая советами родных и знакомых, решила ехать в Петербург и продолжать хлопоты отца. Тяжело было расстаться со всеми удобствами привольной деревенской жизни, со множеством прислуги, с огромным домом, с прекрасным садом и парком: в несколько лет образовалась прелестная барская усадьба со многими постройками, окруженная со всех сторон большим сосновым лесом. Забрав нас (пять человек детей), гувернантку, которая жила у нас 10 лет без жалованья, двух горничных, повара и лакея, мать отправилась сначала проститься со своею матерью Болотовой[45] в Каширское имение и оставила там на хранение некоторые вещи, а все свое личное имущество (гардероб, ненужный ей по случаю траура, некоторые экипажи и мебель) продала и, набрав пять тысяч рублей серебром, кроме бриллиантов, серебра и мехов, двинулась в Петербург. Лошадей, скот и прочий инвентарь ей не позволили продать опекуны…
Только зимою мы прибыли в столицу в восьмиместном дилижансе Серапина[46], остановились в его гостинице и прожили у него до весны, пока нашли себе квартиру у майора Марковича, в Измайловском полку, где и прожили до самого отъезда. Семейство хозяина было многочисленное; он служил в фельдъегерях, был прекрасной души человек, вдовец, любивший страстно своих детей (из числа которых трое были идиоты, потому что были напуганы во время пожара их дома, отчего и умерла их мать).
По приезде в Петербург мать с теткой Болотовой начали свои визиты по всем родным и знакомым, имеющим связи в высшем кругу. С удовольствием и радушием везде их встречали, всюду приглашали бывать; но, узнав причину их приезда в Петербург – процесс с графами Паниным и Орловым – очевидно менялись в своем обращении, так что мать, убитая горем, отказалась их посещать. Некоторые из родных указывали на высокопоставленных особ, которые за большую сумму могли довести до сведения императора все дело; но, посетив их, мать поняла, что не имела достаточно денег, чтобы подкупить людей, могущих обойти законный ход и доклад о деле. Противники имели явный перевес над нами: деньгами, связями, положением и родством.
В поисках и недоумении, что предпринять, изводимая постоянными приглашениями: «приходите еще раз, дело еще на рассмотрении у сенаторов», мать просила многих из них, но безуспешно; многие обещали, некоторые молчали, другие объявляли (посматривая на дверь, чтоб ее скорее выпроводить), что все по закону делается, и что скоро очередь и нашему делу к докладу, теперь же еще нет некоторых справок. Я забыла сказать, что, проезжая Москву, мать со всеми нами детьми поехала к митрополиту Филарету[47], который нас не принял. Мать с отцом была и раньше у него и просила ходатайствовать у графини Орловой[48] о примирении и удовлетворении нашего иска, но получила отказ на том основании, что он не входит в мирские дела; между тем графиня Орлова во всем слушала его, и дело бы прекратилось миром.
Время шло; жить в Петербурге стоило больших расходов, гувернантка нас не оставляла; следовало ей уделять хотя сколько-нибудь в счет жалованья (остальное она получила уже по окончании процесса). Старший брат кончал учение в гвардейской школе вторым учеником, и плата за него не вносилась, но генерал Сутгоф[49] даже не напоминал о плате; также бесплатно готовил и второго брата Нейман. С глубокою признательностью мать вспоминала этих добрых немцев и, получив имение, расплатилась с ними. В горе и отчаянии мать имела одну постоянную мысль, одно желание: выполнить намерение покойного отца, подать лично прошение, вполне уверенная, что если наше дело будет известно императору, то оно благоприятно для нас кончится, и все ее горести и страдания прекратятся. Все верили в справедливость императора, и всем было известно величие души его; но прошение, поданное Его Величеству в Петергофе, было подменено, вероятно, другим и уничтожено, как и все то, чего не желали доводить до сведения императора.