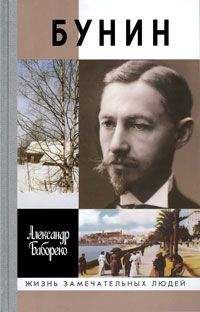— Ах, какой замечательный был во всех отношениях человек, какой писатель… Но только до сих пор не могу понять, для чего понадобилось ему включить в „Воскресение“ такие ненужные, такие нехудожественные страницы…
Он имел в виду те, в которых описывается служба в тюремной церкви… (Не лишено возможности, что до этого дня ему и не попадался экземпляр „Воскресения“ с востановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.)» [94].
Бунин писал о Толстом М. В. Карамзиной 20 июля 1938 года: «Перечитайте кое-что, что я выписал из его дневников (в книге „Освобождение Толстого“, гл. XI. — А Б.), — например, как он шел на закате из Овсянникова, — „лес, рожь, радостно“, — как ехал вечерней зарей через лес Тургенева: „и соловьи, и жуки, и кукушка…“ Более прекрасных, несравненных слов о бессмертии ни у кого нет во всей мировой литературе» [95].
В 1899 году Бунин подарил Толстому только что вышедшую «Песнь о Гайавате» с надписью «Льву Николаевичу Толстому с чувством искренней любви и глубокого уважения».
Прожив зиму 1893/94 года в Полтаве, весной Бунин «отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе „Аркадий“, на котором он тогда поднялся вверх по Днепру» [96].
В июле он приезжал в Огневку Орловской губернии, в имение брата Евгения Алексеевича. Там встретил мать и сестру, которых Евгений вызвал телеграммой, — он сильно болел. Бунин уехал из Огневки 24 июля, 27-го был в Харькове, где встретил его Юлий Алексеевич. Оттуда братья отправились в Полтаву.
Летом он снова путешествовал по хуторам и деревням Украины, по старинным селам Поднепровья. В одну из таких поездок он видел на переселенческом пункте целую «орду» крестьян, гонимых нищетой и голодом с родных мест за десять тысяч верст в Уссурийский край. О переселенцах он скоро написал рассказ «На край света».
Девятнадцатого мая 1894 года Бунин записал в дневнике, что он был в одном из дачных мест под Полтавой, Павленки; отправился туда и 15 августа художник Мясоедов писал с него портрет «в аллее тополей на скамейке [97].
Двадцатого октября 1894 года в Ливадии умер Александр III, и это обстоятельство имело для Бунина большое значение. Дело в том, что за незаконную торговлю толстовской литературой — распространение изданий „Посредника“ — Бунин был приговорен к трехмесячному заключению в тюрьме. Теперь, по манифесту Николая II, он был амнистирован.
Четвертого ноября 1894 года, в день присяги новому императору, В. В. Пащенко, воспользовавшись тем, что „все мужчины отправились в собор и в приходские храмы“ [98], уехала, оставив Бунину записку: „Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом“… Эта фраза, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — так часто цитировалась в течение нашей жизни и при Юлии Алексеевиче, что я не сомневаюсь в ее подлинности» [99].
Разрыв с Варей Бунин тяжело переживал. Родные опасались за его жизнь. По просьбе Юлия Алексеевича из Огневки приехал Евгений, чтобы увезти брата с собой. Но Евгений Алексеевич не решился один ехать с ним. Отправились все втроем. По настоянию И. А. Бунина остановились в Ельце. Встретиться с Варей или узнать, где она, оказалось невозможно. Ее отец при появлении Бунина в его доме обошелся с ним очень грубо: об этом пишет из Полтавы Юлий Алексеевич матери Варвары Владимировны.
В Огневке Бунин пробыл недолго. Скоро он опять отправился в Елец, где узнал, что В. В. Пащенко вышла замуж за его друга А. Н. Бибикова. Это известие настолько ошеломило Бунина, что, по словам сестры Марии Алексеевны, с ним «сделалось дурно, его водой брызгали». Он поехал к Пащенко, не застал их дома и поездом отправился домой. «Ему хочется уехать к тебе, — пишет далее Мария Алексеевна Ю. А. Бунину. — Но мы боимся его одного пускать. Да он и сам мне говорил, что я один не поеду, я за себя не ручаюсь»[100].
Сам Бунин говорит в письме (без даты) к Юлию, что, услыхав о замужестве Вари, «насилу выбрался на улицу, потому что совсем зашумело в ушах и голова похолодела, и почти бегом бегал часа три по Ельцу, около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. „Да, говорят, на Пащенке…“ Я хотел ехать сейчас на Воргол, идти к Пащенко и т. д. и т. д., однако собрал все силы ума и на вокзал, потому что быть одному мне было прямо страшно. На вокзале у меня лила кровь из носу и я страшно ослабел. А потом ночью пер со станции в Огневку, и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки»[101].
О той поре своей жизни Бунин вспоминал: «Так же внутренно одиноко, обособленно и невзросло, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом. И по-прежнему дома не сиделось…» [102]
Отношения Бунина и В. В. Пащенко отразились в «Жизни Арсеньева», хотя этот роман нельзя рассматривать как его автобиографию. Сам Бунин не раз протестовал против такого представления о его произведении.
Он писал:
«Недавно критик „Дней“, в своей заметке о последней книге „Современных записок“, где напечатана вторая часть (а вовсе не „отрывок“) „Жизни Арсеньева“, назвал „Жизнь Арсеньева“ произведением „автобиографическим“.
Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как „Жизнь Арсеньева“, а как жизнь Бунина. Может быть, в „Жизни Арсеньева“ и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело критики художественной» [103].
Бунин говорил:
«Вот думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, поверив в то, что она существовала, и влюбился в нее… Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал… Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А, оказывается, ее не было»[104].