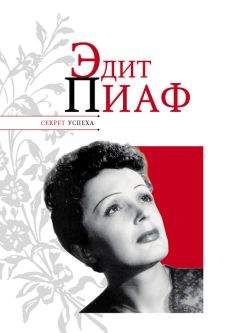– Мадемуазель Пиаф… Почему после покушения вы назвали имена ваших друзей?
– Я никого не обвиняла. Я была вынуждена рассказать о тех, с кем некогда общалась, ведь меня допрашивали. Если бы я не назвала имен, то полиция решила бы, что я кого-то выгораживаю. Я сказала правду, но я никого не обвиняла.
– Вы хорошо знали Лепле?
Эдит плачет, закрывая лицо платком.
– У меня больше нет друзей. У меня никого нет. Оставьте меня…
(1937–1939)
Смерть Луи Лепле не только превратила Эдит в сироту, но и оставила без работы – в апреле кабаре «Жерни’c» навсегда закрыло свои двери. Вокруг певицы образовался вакуум. И пусть ее признали совершенно непричастной к убийству Лепле, в артистической среде Пиаф стала парией. «Не бывает дыма без огня», – слышалось то тут, то там. Лишь крошечная группа преданных друзей и поклонников таланта Эдит – Жак Буржеа, Жак Канетти, аккордеонист Робер Жюэль, композитор Маргерит Монно – продолжали всячески поддерживать Малышку и выказывать ей свою любовь. В этот близкий круг не так давно вошел и некий двадцатишестилетний мужчина. Его зовут Бруно Кокатрикс, он – автор-композитор, но от случая к случаю работает и как импресарио. Кокатрикс устраивает Пиаф в кабаре «У О’Детт», расположенное на площади Пигаль. С 10 апреля по 28 мая 1936 года она выступает в одной программе с юмористом Пьером Даком и певицей Жермен Саблон. Эдит, которая жила в нескольких шагах от заведения, по адресу улица Пигаль, 59-бис, вновь оказалась в родной среде. Но даже если Пиаф и была рада, что нашла работу, она прекрасно понимала, что Пигаль – не Елисейские поля и что возвращение туда – шаг назад. Певица сделает все возможное, чтобы выбраться из «гетто», недостатки и границы которого она отлично знала; ей необходимо было во что бы то ни стало закрепиться в мире мюзик-холла. С конца мая до начала сентября, в то время, когда французские рабочие впервые получили право на оплачиваемый отпуск, она присоединилась к труппе «La Jeune Chanson 1936» («Молодая песня 1936»), выступавшей в казино. 5 августа певица приняла участие в концерте в «Народном доме» Лозанны, в Швейцарии. В тот же день она написала письмо Жаку Буржеа, в котором выразила горячее желание навести порядок как в личной, так и в профессиональной жизни: «Я больше не с Жанно, не с Жоржем, не с Марселем, не с Жаком. Я избавилась от них ото всех, потому что решила стать серьезной и всю себя посвятить работе, как бы того хотел мой старый добрый папа Лепле. И когда вернусь в Париж, я намерена оставаться в одиночестве, в этом я клянусь над прахом месье Лепле… С сутенерами покончено. Между нами, я достаточно от них настрадалась. Отныне мои денежки будут принадлежать мне и только мне. Моим единственным мужчиной станет мой отец»[35].
После возвращения в Париж Пиаф можно было увидеть на сцене кабаре «Альгамбра», где она выступала в первом отделении спектакля вместе с Флорель Виллабелла из театра «Опера», а затем, с 18 по 24 сентября, – в мюзик-холле «Трианон», в этом представлении участвовал мужской дуэт Шарпини и Бранкато. В то же время Эдит пользовалась услугами своего второго импресарио, Фернана Люмброзо, будущего директора «Могадора», который в октябре отправил свою подопечную на гастроли в Брюссель.
Не переставая оттачивать мастерство на самых разных театральных площадках Парижа и других городов, Малышка Пиаф продолжала записывать грампластинки. Так, в начале 1936 года она записала четыре новые песни, которые не завоевали любви слушателей, если судить по негативному отзыву критика Жоржа Девеза: «Этот третий диск был ошибкой: композиции «Les Hiboux» («Совы») и «J’suis mordu» («Я влюблен») относятся к так называемому реалистическому стилю, который на самом деле является скорее пошловатой вариацией на тему черной романтики. Дорогая мадам Пиаф, вы заслуживаете большего…»
Совершенно очевидно: у Эдит проблемы с репертуаром. Она понимает, что рано или поздно надо будет подобрать песни, созданные лишь для нее одной, и в последующие годы, до конца своих дней, станет исполнять только такие произведения. Но пока еще чересчур рано. В конце концов, Пиаф дебютировала как профессиональная певица всего несколько месяцев назад. Однако следующая грампластинка, записанная 7–8 мая 1936 года, свидетельствует о том, что Малышка двигалась именно в этом направлении. Для очередного диска Эдит впервые взяла песню Раймона Ассо «Mon amant de la coloniale» («Мой колониальный любовник»). Быть может, автор текста, тогда еще не числившийся среди близких друзей Пиаф, вдохновился любовным приключением, которое девушка пережила всего несколько лет назад, закрутив роман с солдатом колониальной морской пехоты? Возможно. Но и сам Ассо, бывший спаги, не понаслышке знал об армейской жизни и потому мог воспользоваться собственным опытом. Как бы там ни было, эта композиция подошла Эдит как перчатка и стала первым музыкальным произведением, которое публика стала называть «песней Пиаф».
Менее личностная композиция «Il n’est pas distingué» («Он не благовоспитан»), записанная во время того же сеанса, интересна в другом отношении. Эта песня, созданная Марком Эли и Полем Ме и немного напоминающая «La Java de Cézigue», рассказывает слушателям о неком Зидоре, представленном как «ас аккордеона». Содержание первого куплета донельзя банально. Но постепенно слова обретают глубинный смысл, становятся злободневными и заставляют вспомнить о фильмах Паньоля («Fanny et Topaze» – «Фанни и Топаз»), в которых блистали звезды той эпохи – Генри Гара и Лилиан Харвей. В самом конце в песне и вовсе звучит антифашистский призыв. Вышеупомянутый Зидор, не скупясь на цветистые обороты народного языка, высказывает свое мнение о том, кто последние три года стоит во главе Германии:
Moi, Hitler, j’l’ai dans le blair
Et j’peux pas le renifler
Les Nazis ont l’air d’oublier
Qu’c’est nous dans la bagrre
Qu’on les a dérouillés…
Moi si j’le poissais à jacter
J’y fairais: marr’ de bobars
Y faut les envoyer
Si t’es nazi va te faire piquouzer
Et pis j’y balancerais ma godasse dans
L’fouingne’dé.
Лично я Гитлера не перевариваю,
И я на дух его не переношу,
Нацисты, кажется, забыли,
Что это мы в заварушке
Их отлупили…
Если бы я застукал его за болтовней,
Я бы сделал следующее:
лопнул бы со смеху от его брехни.
Их надо послать куда подальше,
И, если ты, нацист, станешь меня доставать,
Более того, я не сдержусь
И задам тебе жару, чтобы проваливал[36].
Пиаф увлеклась политикой? Разумеется, нет. Это странное обращение к политической песне не будет иметь никакого продолжения. Певица просто ищет свой стиль, у нее нет никакого желания разоблачать гитлеровскую диктатуру.