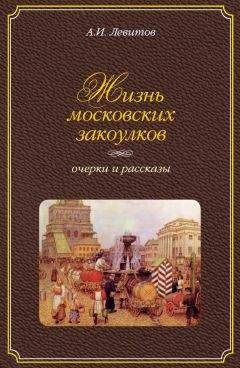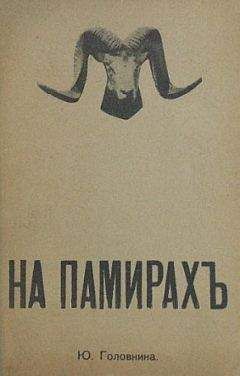Ознакомительная версия.
– Что же, она и теперича у него сидит? – торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным, шестнадцатилетним личиком.
– И теперь сидит. Барина-то того прощалыжного за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.
Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась гадать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у нее предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублев{40} ценностью.
– Черт его, прости Господи мою душу грешную, знает! – шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. – Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом{41}; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали{42} вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так то-с! – закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.
Кухарка. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? – снова начала Дуняша. – Так и приказал что, дескать, не пускай ее, – меня, мол, дома нет?
– Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, унтер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? – Лопнут. Утроба-то ненасытная и то, может, лопнет. О чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.
– А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? – еще раз переспросила Дуняша.
– Что ж я тебе, дура, врать что ли стану? – с досадой ответила Лукерья. – Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?
– Ах, я разнесчастная, разнесчастная! – вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. – Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. – И с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкой грудью.
– Что ты, что ты, беспутница, делаешь? – закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшей девушкой.
– Куды те, полоумную, шуты несут? – кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.
– Что тут такое? что тут такое? – пугливо осведомлялась красивая, полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотой часовой цепочкой, развешенной на груди в виде адъютантских аксельбантов.
– Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, – говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.
– Же лонер, мадам{43}! Милль пардон, мадам! – расшаркивался воротившийся из трактира Бжебжицкий и достаточно уже хвативший для смелости. – Это моя сестра! Маляд, бедное дитя{44}! Она в горячке! – плакал услужливый воин и могуче оттаскивал девушку от двери. – Друг мой! Бедный друг мой! – говорил он – Поди, ляг в постель, голубенок! Успокойся.
– Подите к черту! – простилась Дуняша с компанией, быстро сбегая с лестницы.
Московский трубочист. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
– Комедчики! Право, комедчики! – разрешила всю эту историю хладнокровно Татьяна. – Только и дура же эта Авдотья! Поди-ка, что выдумала – к господам драться полезла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сне еще ей не снились…
– Что, Авдотья Елисеевна, али с господами-то – не с нашим братом? – встретил Дуняшу на дворе молодой мастеровой, некогда отвергнутый ею. – Хорошо, верно, господа привечают, да хорошо и вон провожают… – с насмешливой тоской говорил он девушке, дрожавшей всем телом от злости на человека, так нахально обругавшего ее первую, молодую любовь.
– Милый ты мой! Митя, голубчик! расшиби ты сейчас окно у них, у разбойников! Я тебя за это, умереть мне на месте, полюблю с этого самого часа. Только ты возьми камень и расшиби.
– Беги за ворота, а оттуда в пивную к Прокофью, там меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полиция придет. Скажешь тогда, ежели спросят: «Я, мол, тут с Митрием близко часу сижу», – советовал Дмитрий, и скоро после этого в комнатах снебилью целая оконная рама была вдребезги разбита десятифунтовым булыжником.
– Держи, держи! – орал Бжебжицкий, размахивая своим ужасным чубучищем.
– Держи, держи! – голосил дворник на улице будочникам; но халатник сидел уже у дяди Прокофея и любовно говорил своему новому другу:
– Милая моя! ты вот осмеяла меня тогда: мастеровщиной немытой ругала, – а все же я тебя в твоем грехе от всего моего сердца прощаю. По молодости по своей девичьей проштрафилась ты, не знала, что господа-то вашу сестру для утехи своей обманывают… Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящего-то горя так и то не выплачешь, а твое горе – не горе, а плевое дело…
– Я, Митя, и не плачу, – шептала Дуня. – Я вот только с сердцем никак не могу совладать; дрожит оно у меня очень, сердце-то! Всех бы я их, до одного человека, теперича зубами изгрызла.
– Мы теперича, – растягивал Дмитрий, пьянея и, следовательно, уже начиная муштровать свою бабу, – мы теперича никогда не должны этого говорить. Потому перед Богом такие слова – грех, по Писанию не так… Опять же, ежели ты возверзишь… и воззовешь… Н-ну, од-дно сл-лово… у меня слушаться! Со мм-мной тебе, девка, хор-рошо буд-дет! Я не вор-р, не пьяница чтобы большой уж очень, – грамотен тоже… Слушайся меня, девка, пей пиво, а я твоего греха не попомню. Цалуй!..
Немало также новой жизни в прежнюю патриархальность воскресно-мастеровых вечеров дома внесли и праздничные возгласы Захара, бывшего подручника Татьяны у купца. Затешется он, бывало, на дворик комнат снебилью, станет пред их окнами растрепанный, разбитый весь, с пьяным, чахоточным румянцем на лице, и заорет:
– Эй, Татьяна Ликсевна! – отворяй ворота, принимай за повода, – гости приехали!.. – И ежели Татьяна, распивая кофей с приятельницами в каком-нибудь дальнем углу своей квартиры, не услышит молодецкого вызова, то кто-нибудь из жильцов, а чаще всего прапорщик Бжебжицкий, неустанно посылающий из своего окна поцелуйчики проходящим дамам, непременно бежал к ней и докладывал:
Ознакомительная версия.