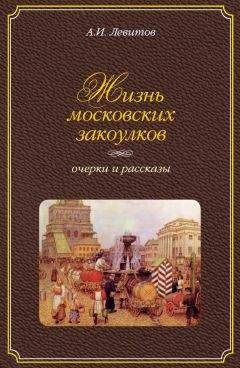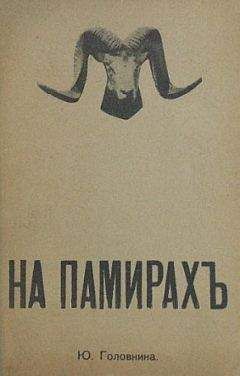Ознакомительная версия.
– С твоих-то хлебов и заведешь жира! – басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.
– Стой-ка, стой мать! – не совсем еще прогневавшись, останавливал ее сам. – Што ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли, авось, хошь с моей-то легкой руки?
Говорит это сам, благодушно и тихо посмеиваясь и бороду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов очувствуется.
– Ученого учить – что портить! – возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские. – Своих дураков полны горницы, – их бы перво-наперво поучил.
Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала «караул» и стремглав бросилась в фартал{33}.
Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. Наутро только квартальный пришел к самому с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.
На всю улицу орала Татьяна, когда сам прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три-шей, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:
«Сдесъ адаюца комнаты састылом и снебилью вхот, налева фперваю лесницу».
Эти комнаты снебилью оборудовала Татьяне опытная в делах подобного рода коммерсантка.
Спасайтесь от них, бедные люди!
IV
Обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины коммерческие мистерии
Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, – этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы комнат снебилью. Маленькие мастеровые ребятенки, прежде мелькавшие в кабак и в мелочную лавочку, примерно, по десяти раз в день, теперь бегали в означенные места непременно раз по пятнадцати; ибо прапорщик Бжебжицкий, день и ночь рубившийся в штос{34} со своими закадыками, в то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогий одр Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидывал следующие фокусы. Отворивши окно своей квартиры, он зычно обращался к ребятенкам-ученикам, которые, как известно, осень и лето спят по разным дыркам в дровах, в холодных чуланах, на сеновалах с хозяйским кучером и проч. и проч.
– Эй вы, чертенята! – орал Бжебжицкий. – Куда вы застряли там, бесовы детки? Ежели кто из вас достанет мне сию минуту штоф водки{35}, пять селедок и луку, тот получит от меня пятачок. Жива-а!
В тот же момент бездушная, но громадная масса дров, сложенная под окнами прапорщика, обнаруживала некоторую жизнь. В этой полночной тишине, которая даже подчиняет себе немолчный шум столиц и больших городов вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало, – и вот пред усастым лицом отставного военного предстал всех и всегда слушающийся дух, в виде некоторого маловозрастного халатника, с белокурыми шершавыми волосами, с молодым личиком, отчетливо изрисованным приобретенной в городе плутоватостью и неудержимой охотой приобретать от тороватого столичного населения пятачки и гривеннички, которые так обильно вознаграждают скупердяйство и даже, в некотором смысле, суету хозяйских обедов и ужинов.
Пивная лавка С. П. Жильцова на углу Смоленского бульвара и Толстовского переулка. Фотография 1913 г. Частный архив
Предстал этот дух и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на месте босыми ногами, доложил прапорщику:
– Я эфто дело-с, ваше в-дие, вам в точности оборудую потому как я служу-с вашим б-м верно-с… Лавочник Митрий-с сказал мне-с: «В полночь ко мне стучись, – обижен не будешь».
Смеется мальчишка и, говоря эти слова, как-то знаменательно топчется.
– Молодец парнек! – похвалили его из-за карт юнкера и прапорщики и вообще все те московские полночные совы, которые проявляют свою деятельность по разным закоулкам преимущественно в ночное время, потому что днем она слишком ярко и ослепительно бросалась бы в глаза остальному обществу.
– Я вам, ваше в-дие, все могу-с… Теперича у нас в мастерской хоша и есть большие ребята, но они того не могут сделать, что я могу, потому я все равно как взрослый какой! Водку я тоже могу…
– Неужели и водку можешь? – осведомилась у ребенка пьяная компания.
– Сейчас издохнуть, могу! Что ж такое? Мне это все нипочем. У нас, ваше в-дие, весь род такой: три брата здесь на мастерстве пропали, отец пропал, двое дядей, материн племянник, так все тут до единого лоском и легли. Наши сельские говорят: это они от большого ума залились…
После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и луку, заслуга его была награждена вовсе не пятачком, а просто-напросто шутливой трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали насчет его сиятельства графа Шереметева, т. е. «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой – и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет, уж посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».
На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки{36}, принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастной девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с ней хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собой конурки, образовавшиеся в дровах, – конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.
Закусочная на углу Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка. Фотография 1912 г. Частный архив
Ознакомительная версия.