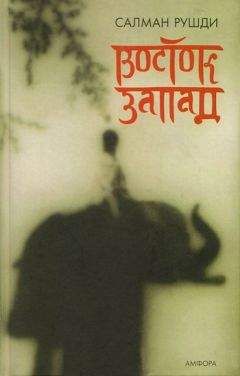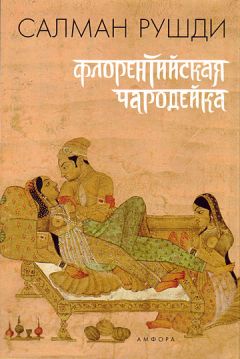городу деньги?), – то преследования мусульман прекратятся, а Мухаммад войдет в число правителей Мекки. Не исключено, что Мухаммад в какой-то момент поддался искушению.
Что же было дальше? Градоправители передумали, рассудив между собой, что заигрыванием с многобожием Мухаммад дискредитировал себя в глазах последователей? Или мусульмане отказались принять откровение о трех богинях? Или сам Мухаммад решил, что негоже изменять идее, уступив соблазну популярности? Никто не знает этого наверняка. Недосказанное в письменных памятниках остается только додумывать. Но ведь в Коране прямо говорится: через искушения прошли все пророки. “И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо”, – сказано в 22-й суре. И если случай с шайтанскими аятами был таким искушением для Мухаммада, то он, между прочим, с честью вышел из положения: признал, что подвергся соблазну, и решительно этот соблазн поборол. Ат-Табари приводит такие слова Пророка: “Я соделал зло против Бога и вложил в уста Ему речи, коих Он не произносил”. Исламский монотеизм прошел испытание огнем, и с тех пор его уже не могли поколебать никакие преследования, изгнания и войны, а совсем немного времени спустя Пророк одолел всех своих врагов и новая религия неукротимым пламенем разнеслась по миру.
“Неужели у вас – мужчины, а у Него – женщины? Это тогда – разделение обидное!”
Смысл “подлинных”, ангельских или божественных, аятов очевиден: именно женскость крылатых богинь принижала их и делала самозванками, доказывала невозможность признания этих “величественных птиц” такими же детьми Божьими, какими считались ангелы. Бывает так, что при рождении великой идеи многое становится понятным о ее будущем; то, как она входит в мир, позволяет провидеть, что ждет ее на этапе зрелости. Что до идеи, о который ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие.
Интересный сюжет, думал он, читая обо всем этом в книжках. В ту пору он уже мечтал стать писателем и на всякий случай припрятывал интересные сюжеты в закрома памяти. Настоящее понимание того, насколько этот сюжет интересен, пришло к нему через двадцать лет.
JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO [26], писали на стенах Парижа той революционной весной. Через несколько недель после парижских evenements [27] мая 1968 года и за несколько дней до выпускной церемонии какой-то пожелавший остаться неизвестным остроумец, возможно даже из лагеря марксистов-граучианцев, в отсутствие хозяина привнес новизну в декор его буржуазной комнаты в элитарном общежитии, изведя на это чуть ли не ведро мясной подливы с луком, каковой щедро вымазал стены и мебель, а также, разумеется, проигрыватель и одежду. Следуя исстари укоренившейся традиции честности и справедливости, которой так гордятся в Кембридже, администрация Кингз-колледжа немедленно возложила всю вину на него одного и, проигнорировав все возражения, поставила в известность, что диплом ему вручат только после того, как он возместит ущерб. Так в первый, но, увы, далеко не в последний раз его облыжно обвинили в разбрасывании дерьма.
Он за все заплатил, но из духа противоречия на выпускную церемонию явился в коричневых ботинках. Его мгновенно выдернули из рядов уместно-черноботиночных однокашников и велели пойти сменить обувь. Таинственным образом люди в коричневых ботинках были обречены на печать неуместно одетых, и этот приговор также обжалованию не подлежал. Он и в этот раз уступил, сбегал переобуться и успел в последний момент вернуться в строй. Когда наконец пришла его очередь, он должен был взять за мизинец университетского служителя и чинно проследовать за ним к подножию монументального трона вице-канцлера [28]. Преклонив колена у ног начальственного старца, он в жесте мольбы, лодочкой сложив ладони, воздел над головой руки и на латыни нижайше попросил вручить ему диплом, который – мысль об этом все время крутилась у него в голове – он заслужил тремя годами усердных трудов, а родители оплатили солидной суммой. Руки ему посоветовали держать повыше, чтобы вице-президенту не пришлось слишком низко нагибаться, а то он, не ровен час, мог навернуться со своего массивного трона прямо на спину выпускнику.
Каждый раз, вспоминая об этих событиях, он ужасался собственной покорности, но выбор у него тогда был небольшой. Он мог, конечно, не платить за перемазанную мясной подливой комнату, мог не переобуваться, не вставать на колени перед вице-канцлером. Но он предпочел смириться и спокойно получить свой диплом. Память о том смирении добавила ему упрямства, из-за нее он стал менее охотно идти на компромиссы и мириться с любой несправедливостью, большой или малой. Несправедливость с тех пор прочно ассоциировалась у него с подливой – грязно-бурой, комковатой, густой жижей, омерзительно, до слез воняющей луком. Нечестно – это когда тебя заставляют сломя голову мчаться к себе в комнату, чтобы сменить объявленные вне закона коричневые ботинки, когда приходится коленопреклоненно на мертвом языке вымаливать нечто, что и так тебе по праву принадлежит.
Много лет спустя он рассказал обо всем этом на актовой церемонии в Бард-колледже. “Сегодня я хочу поделиться с вами мудростью, почерпнутой мною из притч о Неизвестном Подливном Вандале, Табуированной Обуви и Шатком-Валком Вице-канцлере, – говорил он погожим днем в Анандейле-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, выпускникам 1996 года. – Первое: если когда-нибудь вас обвинят в тяжком злоупотреблении подливой – а вас в нем как пить дать обвинят, – при том что подливу вы употребляли исключительно по назначению, не берите вину на себя. Второе: те, кто гонит вас за неправильные ботинки, не стоят того, чтобы с ними считаться. И третье: ни перед кем не опускайтесь на колени, умейте постоять за свои права”. Выпускники 1996 года – кто-то босиком, кто-то с цветами в волосах – подходили за дипломами весело и непринужденно, от избытка чувств пританцовывали, потрясали в воздухе кулаками. Как же это здорово, думал он. Происходящее близко не походило на кембриджскую церемониальность и сильно от этого выигрывало.
Родители к нему на выпуск не приехали. Отец сказал, что ему не по карману авиабилеты. Это было неправдой.
В его поколении были романисты – Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, – чья писательская карьера стартовала стремительно: едва, так сказать, вылупившись из яйца, они величественными птицами взмыли к небесам. А надежды его ранней юности не оправдались. Какое-то время он жил на чердаке в доме на Акфолд-роуд, что неподалеку от Уондсворт-Бридж-роуд, в том же доме поселились его сестра Самин и трое кембриджских приятелей. Убрав приставную лестницу и закрыв лаз в потолке, он подолгу просиживал в защищенном стропилами мирке и делал вид, будто пишет. Что именно, он