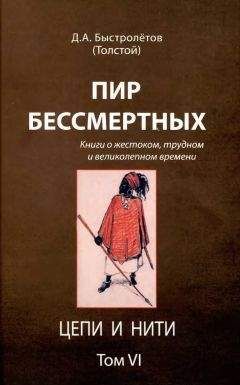Поезд, доктор, как говорится, умчался в голубую даль, а мы, возчики, начали собирать эти маленькие падлы, тащить их из-за закоулков. Конешно, надоело, да и домой пора. Которые орали сильней, мы их, обратно, хватали и грузили навалом в кузова, тихих всю ночь потом подбирала милиция. Я тоже привёз полный кузов, сдал в ясли без счёта, как сам нахватал под кустами да в уборных — товар этот сам по себе цены не имеет, но ясельная обслуга ему была рада — есть вокруг чего кормиться и опять раздувать законное предприятие! Мой набор припишут по именам и фамилиям прежних своих ясельников, но если я прихватил лишний десяток, то их кому? Я же говорю — пр-р-равильная комедия!
Потянулись пустые дни.
— Нужно привыкать, Дмитрий Александрович, — степенно и размеренно говорит Андреев. — Нам суждено вынести много ударов, в том числе и этот. Духовно я был очень близок с женой. Расставаясь, поклялась ждать моего освобождения. Отрезанный от мира, я жил воспоминаниями. Но жена осталась в гуще жизни. Её письма сначала были частыми, длинными и живыми, потом начали приходить реже и, наконец, стали короткими, редкими и пустыми. Жена в первом же письме обещала приехать ко мне на свидание. Но в тот год не поехала — схватила грипп. На второй год уже добралась до Москвы, но тут задержали её покупки. На третий год опять собралась ко мне, но как-то случайно попала в Крым и в Ялте познакомилась с одним бухгалтером, за которого сейчас же вышла замуж. Я не в претензии — она не виновата: мёртвый не должен хватать за ноги живых. Я успокоился и, как вы знаете, сошёлся с доктором Мухиной. Жизнь неумолимо разрывает старые связи и строит новые. Это разумно. Вольный заключённому не пара. Не гальванизируйте то, что должно захиреть и отпасть естественно, как бесплодная ветвь: стройте себе в Суслово новую лагерную жизнь!
— Анечка нас не забудет! — возразил Севочка.
— Жизнь заставит забыть. Наша честь не позволит нам назойливо напоминать о себе. Засов на калитке — это наш ЗАГС: он заключает и расторгает наши браки. Задвинулся — и всему крышка!
Но крышки не получилось. Анечка писала недлинные и не особенно горячие письма. По-деловому сообщала, что была в Москве и получила там назначение на один завод в Сибири, какой — не написала. Это нам показалось странным и подозрительным.
— Иванова работает в Славгороде на военном заводе. Инженером. Устроилась хорошо, — сказал мне опер, капитан Еремеев, когда я однажды закончил проверку иностранной почты и попросил его вызвать конвой. — О ней не беспокойтесь!
Это была сенсация: бывшая заключённая — и на военном заводе!
Затем последовало новое известие, которое переполошило лагерь. Анечка извещала без всяких объяснений, что в двадцатых числах октября меня вызовут в Москву на пересмотр дела и на освобождение. Все раскрыли рты…
А 23 октября меня вызвали в штаб: в Мариинск прибыл из Москвы спецконвой (офицер с солдатами) лично за мной. Внезапные сильные морозы на три дня задержали отправку.
— Вот так наша Анечка! — торжествующе сказал Сева и крепко обнял меня. — Другого и быть не могло!
Когда меня увели на Мариинскую пересылку, Анечка ещё долго переписывалась со своими сусловскими друзьями, а некоторым прислала продуктовые посылки. Её письма всегда были тёплыми, вселяющими веру в будущее. Они ходили по рукам, и каждый читал, держась рукой за сердце и облизывая внезапно пересохшие губы, тихо повторял:
— Анечка есть Анечка! Натуральная молодчица!
Вскоре после освобождения Анечки произошло неожиданное событие. В амбулаторию явился нарядчик Мельник и вежливо, но твердо предложил Тамаре Рачковой перейти из кабинки в женский барак. Это был гром среди ясного неба.
— Вы с ума сошли! Я?! Перейти в барак?! Чепуха! — отрезала Тамара. — Я никуда не пойду!
— Пойдёте, — ответил Мельник и заковылял прочь. Он хромал после аварии на сторожевом катере. Взамен сейчас же пришёл Плотников.
— Рачкова, в два счёта переходите в барак.
— Не пойду. — И, нарушая правила конспирации, вдруг выпалила. — Ведите меня в Оперчекчасть!
Еле сдерживая злорадные улыбки, мы молча стояли, ожидая, чем кончится эта сцена. Она кончилась быстро.
— Самоохранник, перетащи вещи Рачковой в женбарак! Живо! А в Оперчекчасти вам делать нечего, заключённая.
— Я… — Тамара задохнулась от возмущения. — Я…
Но Плотников прищурился, искоса подмигнул мне и Севочке и ушёл. Девять лет спустя, в Москве, Анечка рассказала, что после выхода за ворота она зашла к Еремееву проститься и сообщила ему, что Тамара давно раскрыта заключёнными и окружена стеной недоверия и ненависти.
Несколько недель Тамара, униженная, оскорблённая, вдруг потерявшая всю былую власть, приходила на работу из женского барака. Повар перестал давать ей незаконные порции больничного питания, зав баней выгнал из раздевалки, каптёр отобрал незаконно выданные сапоги: это было падение тирана. Зона вздохнула с облегчением.
Позднее явилась новая заведующая амбулаторией, а Тамару отправили на третий лагпункт. Возчик, цыган Иван, передал тамошним контрикам нашу записку: «Рачкова — сексот и гадина. Будьте осторожны». Обратным рейсом Иван привёз старую еврейку очень благообразной внешности и тоже бывшую супругу секретаря обкома. При ней с Иваном пришёл ответ: «Получили вашу гадину, посылаем нашу. Не верьте ей ни слова». Новая осведомительница стала работать в обстановке вежливого недоверия и не сумела пустить корней в нашей среде. Второй царицы Тамары из неё не получилось. Рач-кову и некоторых других обитательниц сусловского женбарака Анечка и я видели в Москве, но об этом скажу в своё время.
Миллионеры, лейтенант госбезопасности Бульский и жулик Греков, надо полагать, тихо доживают сытые дни — советская земля для них всегда стлалась пухом!
Тэру Таирову я не встречал и о её судьбе ничего не знаю.
После отъезда Тамары Рачковой амбулаторией стала заведовать вольная медсестра, только что окончившая Ростовский медицинский техникум, молоденькая и симпатичная девушка, на людях — гражданка начальница или Мария Тимофеевна, наедине — просто Маруся. Она начала жить с Севочкой. Жили они хорошо. Маруся говорила, что в зоне она отдыхает от жизни. Как видно, на воле ей жилось несладко. Потом сексоты их выследили и Севочку отправили на штрафной, где он и умер, а Марусю — на другой лагпункт, где она стала жить с заключённым каптёром. Потом её опять выследили и выгнали из лагерной системы, как Анечку Семичастную, а с каптёром я встретился в Озерлаге (в Тайшет меня направили из Москвы как бывшего сиблаговца).
— Славная была девушка, — шептал каптёр, глядя в пространство. — Таких здесь не держат: доверия она у начальства не заслужила!