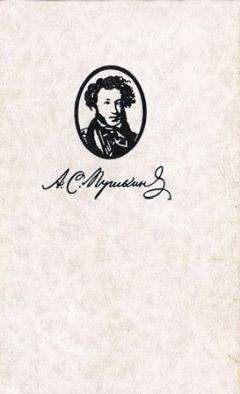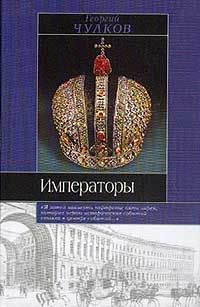Ознакомительная версия.
Любовь Петровна, прощаясь со мной, задержала мою руку в своей и сказала тихо:
— Мне хорошо сейчас, мне хорошо… Но сестра говорит, что в любви только это и хорошо…
— Что это?
— Эти первые желания, эта надежда…
— И вы верите вашей сестре?
— Она мудрая.
— Ах, у сестры вашей недоброе сердце.
— Она мудрая, — повторила Любовь Петровна шепотом.
— Нет, нет! — сказал я. — Я люблю вас. Я не могу без вас жить.
— Прощайте, прощайте… У меня голова почему-то кружится… До завтра? Не правда ли? Вы приедете к нам на Елагин в шесть часов. Хорошо?
Я сказал, что приеду, и так мы расстались.
На другой день, в шесть часов, я приехал на дачу, как мы условились.
Меня приняла старушка-тетка не без некоторого удивления. Компаньонка ее смотрела на меня насмешливо. Так мне казалось, по крайней мере. И даже фокстерьер тетушки рычал на меня и скалил зубы. Я, робея, осведомился о Любови Петровне, и тетушка спокойно сказала мне, что Любочка сегодня в двенадцать часов уехала к сестре. Потом тетушка, заметив, вероятно, мое смущение и желая меня ободрить, заговорила со мной о теософии, но я плохо понимал то, что она мне говорила тогда.
На другой день я уехал из Петербурга. Когда извозчик вез меня с вокзала домой через большой ветхий деревянный мост и я увидел знакомые пристани, Нижний базар и наши грязные улицы, я вдруг почувствовал, что я недолго проживу здесь. Я вспомнил о Бережиных. Зачем они, возненавидевшие наш город, не покинули его до сих пор? Или они понимают, что дело не в городе, а в них самих, в их утомленных и бессильных сердцах.
«Но мне-то здесь делать нечего, — думал я. — Довольно сидел я отшельником. Я уеду в Петербург или еще куда-нибудь, где шумит море».
Однако, вернувшись домой, я вымыл палитру и принялся за работу. Я работал, и мне казалось, что я уже не влюблен и что мне все равно, живет или не живет в нашем городе та, из-за которой я приехал сюда.
Моя Мавра заболела, и мне приходилось самому ходить за хлебом и молоком. Однажды, когда я шел по улице с бутылкою молока и большим ломтем ситного хлеба, завернутого в тонкую желтую бумагу, я встретил Любовь Петровну с сестрою. Они ехали на извозчике с чемоданами, и мне показалось, что Любовь Петровна сделала жест рукою и что-то крикнула, как будто бы хотела остановить извозчика, но я даже не успел снять шляпы: руки мои были заняты.
Я вернулся домой расстроенный, угнетенный и усталый, как будто бы я исполнил какую-то тяжелую и мучительную работу.
Кисти валились у меня из рук, и в душе было как-то пусто и сухо.
На другой день ко мне пришел нежданный гость — Сергей Матвеевич Бережин. До того времени он ни разу у меня не был.
По-видимому, он хотел быть приветливым на этот раз, но это не шло к нему. Вскоре он принялся бранить, как водится, наш город, губернатора, городского голову, а потом тотчас же и таким же тоном, чуть ли не в тех же выражениях забастовавших рабочих на судостроительном заводе Пруста.
Мне скучно и трудно было его слушать.
— Да, вот еще что, — сказал он, — я пришел, собственно, по поручению Антонины Петровны. Она вас просит к нам. Приходите, в самом деле. Любовь Петровна уехала теперь в Иркутск. Вы знаете?
— Спасибо, — ответил я, — если смогу, приду.
Он стал торопливо прощаться. Когда я подавал ему пальто, он вдруг обернулся ко мне.
— Какую я сейчас мерзкую сцену на улице видел, — проговорил он, сделав гримасу. — Баба на тротуаре родила. Ведь дура какая! А! Не могла заблаговременно устроиться где-нибудь! Валяется в грязи, как свинья. Какой-то мужик ребенка взял, — знаете, такой кусок мяса поганый. Смотреть противно.
Я не пошел к Бережиным. Через три дня уехал в Петербург.
Конский завод Степана Федоровича Булатова всем был известен. Сам Степан Федорович умер еще в 1905 году, умер он без покаяния, как вольнодумец, зато, когда почувствовал, что дело плохо, велел к себе в спальню привести своего любимого жеребца Султана. Степан Федорович даже о тяжелой болезни своей забыл, когда застучали копыта по ступенькам крыльца. Пришлось одну деревянную перегородку свалить, но конь все-таки, храпя, подошел прямо к изголовью.
— Милый! Сынок! — сказал Степан Федорович, когда конь, фыркнув, мотнул головой, как будто кланяясь, как будто прощаясь с хозяином.
Степан Федорович протянул руку (правая еще действовала) — и потрепал Султана по шее, теплой, живой и чуть влажной.
Крепкий запах конского пота, черный косящий умный глаз великолепного коня, старый объездчик Трофим и молодой конюх Илья, державшие Султана за узду, — все это напомнило помещику конюшни обряд случки и весь этот земной, навозный, терпкий, пахучий, трепетный мирок.
В это время Султан повернулся и свалил крупом столик с фарфоровым китайцем. Но этого уже не видел Степан Федорович: он запрокинул голову на подушку, сильно побледнев. Коня увели. Хозяин закрыл глаза и тяжело дышал. Вошли в комнату, робея, жена Марья Николаевна и дочь Наташа…
С тех пор много воды утекло — четырнадцать лет не шутка. Марья Николаевна, тихая, застенчивая, богомольная и давно уже смирившаяся женщина, вдовствовала покорно. Наташа, тоже тихая, как мать, по приемам речи, в сердце была, подобно отцу, не бесстрастна… А чуть косенькие глаза и насмешливая улыбка внушали невольно мысль, что у этой Наташи за видимым смирением таится, пожалуй, и еще кое-что иное.
В косенькие глаза влюбился сын соседа, молодой помещик. Прожил он с Наташей на хуторе ровно четыре года и умер неожиданно от грудной жабы, оставив молодой жене троих ребят. Наташа с хутора опять перебралась в большой дом, и обе вдовы — молодая и старая — возились с детьми, худо вникая в хозяйство.
А конский завод, гордость Степана Федоровича, столь славный у нас на юге, пришел в упадок.
Уже сменилось три поколения заводских жеребцов. Теперь был Султан Третий — конь породистый, сильный, тонконогий, с чудесной спиною и красивою шеей. Но, по-видимому, это был последний производитель на Булатовском заводе. Не было таких кобыл, как прежде. Некому было править заводом, как правил покойный Степан Федорович. Кучера, конюхи и объездчики относились к чужому делу спустя рукава. Имение вовсе доходу не давало, и было странно, что барская усадьба так обширна, дом так велик, что в двадцати четырех комнатах, уставленных александровской мебелью,[1288] ютятся две женщины и ребята, беспомощные и боязливые, и что постоянно не хватает денег, несмотря на то, что Булатовым принадлежала тысяча десятин. Лошадей продавали то и дело. Управляющий, по фамилии Трепеговский, был как-то загадочен: Марья Николаевна и Наташа боялись его, а крестьяне боялись и ненавидели.
Ознакомительная версия.