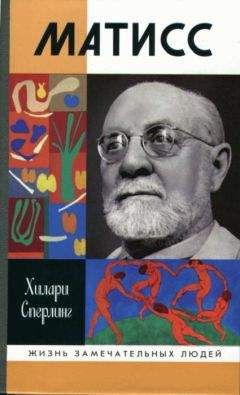И художник, и доктора понимали, что его жизнь во многом зависит от Лидии, делавшей все возможное, чтобы ничто не мешало ему творить. Наблюдая, как один за другим дряхлеют и умирают друзья, Матисс уже давно не строил иллюзий. Первым ушел Аристид Майоль. «Вот и нашего старшины больше нет, — сообщил он Пьеру в одном из первых писем, отправленных после освобождения. — Хочется верить, что его заместители окажутся удачливей — здоровье их так себе, но надеюсь, что они еще поживут. Догадываешься, кого я имею в виду, — Боннара, которому семьдесят девять, но он еще держится… Да и я при хорошем уходе смогу еще протянуть немного». Берта Парейр, поклявшаяся дожить до освобождения Франции, весной умирала от рака в Бозеле. «Берта, бедная Берта, как это несправедливо расстаться с жизнью, которая целиком была посвящена другим!» — написал Матисс Пьеру, который уже не застал любимую тетушку в живых. Она умерла 4 июня 1945 года, через месяц после капитуляции Германии. Последние недели Амели была рядом с сестрой. За шесть лет, прошедших с тех пор, как Матисс видел жену последний раз в Париже, они навсегда поменялись ролями: он провел остаток дней почти прикованным к постели, а она, пройдя через суровые испытания ареста, допросов и тюремной камеры, возродилась к жизни. Старость Амели Матисс встретила в прекрасной физической форме, в окружении картин мужа, которые, как она не раз напоминала Матиссу, были дороги ей ничуть не меньше, чем ему.
Весной 1945 года к Матиссу в Ване приехал Леон Вассо. Старинный товарищ изменился до неузнаваемости, стал худым и немощным, но остался тем же оптимистом и весельчаком. Им было удивительно хорошо вдвоем. Они ели ароматный луковый суп, потягивали крепкую настойку, которую Лидия делала сама, наперебой вспоминая истории из детства в Боэне и шальные студенческие выходки. С Вассо и больше ни с кем, говорила Лидия, Матисс позволял себе быть жизнерадостным, беззаботным, раскрепощенным. Таким его не знал никто. По сравнению с Матиссом провинциальный доктор казался настоящей развалиной. «Хочу думать, что энергичность и смелость заразительны, — с грустью писал Вассо Матиссу. — Я немного младше тебя, но выгляжу гораздо старше оттого, что из нас двоих у тебя одного есть цель впереди, есть идеал — и какой идеал!»
Приехав в Ване во второй раз, Вассо привез с собой глиняный медальон Камиллы Жобло, в которую оба были влюблены в юности. Мать Маргерит жила в Бретани с мужем, школьным учителем на пенсии, и утешалась воспоминаниями о волшебных временах, когда она царила в колонии парижских художников. Матисс повесил медальон с портретом Камиллы на стену. Его первая скульптурная работа не раз появится в заключительной серии вариаций на тему «интерьер мастерской», рождавшейся на глазах Камиллы полвека назад. В написанных в 1947 году «Красном интерьере с синим столом», «Натюрморте с гранатами» и «Натюрморте с гранатами на фоне венецианского красного» художник вплел воспоминания о прошлом (лишенные привкуса ностальгии и фальшивой сентиментальности) в «узор настоящего». Три картины вошли в серию из тридцати видов мастерской в Вансе, ставших последними живописными работами Матисса. Свет и цвет в них столь интенсивны, столь витальны, что кажутся независимыми от своего физического источника. Матисс словно предвосхищает принципы абстрактной живописи и в то же время оглядывается назад, на свои ранние работы, возвращаясь к бесконечно растяжимому прустовскому ощущению времени, в которое можно войти и выйти, как в пространство.
3 июля 1945 года Матисс вернулся в Париж, его встречала и провожала карета «скорой помощи». Он ехал в спальном вагоне, готовя себя к свиданию с семьей, которого ожидал с радостью и некоторой настороженностью. Жан обосновался в его старой мастерской в саду в Исси, но жил с семьей в городе. Маргерит устроилась в своей квартире на улице Миромениль, ожидая приезда из Нью-Йорка мужа и сына, которого так долго не видела; Амели вернулась к Маргерит, не желая оставаться в одиночестве. В конце июля прилетел Пьер: они с отцом не виделись целых шесть лет, хотя постоянно переписывались. Всю войну Матисс чуть ли не каждую неделю писал сыну (не считая нескольких месяцев после операции и прерванного авиасообщения из-за блокады Атлантики) до двадцати страниц, покрывая тонкие, прозрачные листы с обеих сторон; он даже умудрялся втиснуть какую-нибудь приписку в пустой правый угол, словно не мог вынести разлуку с Пьером. Они писали друг другу о своих надеждах, сомнениях и опасениях; их письма были полны искренних и нежных слов, какие ни тот ни другой не могли найти при встрече. Отец и сын то и дело менялись ролями, давали друг другу советы, утешали, взрывались гневными отповедями или упреками. Их переписка сочетала простоту дневника с откровенностью исповеди и всю жизнь служила хранилищем их секретов. На публике Матисс часто бывал довольно суров с сыном, да и Пьер позволял себе прилюдно жаловаться на отца. Ни родные, ни друзья даже не предполагали, что за этой неприязненностью скрывался вечный конфликт искусства и бизнеса. Запас «свободных картин» истощился до минимума, а цены после войны стали расти — в такой ситуации галеристы, имевшие хороший сток, могли неплохо заработать. Матисс никогда не испытывал симпатии к арт-дилерам, жирующим за счет художников. Собственный сын не мог стать исключением.
Семья больше не играла в жизни и работе Анри Матисса той роли, что прежде, и родным с этим нужно было смириться. Летом 1945 года, спустя пять лет после официального развода с женой, Матисс впервые появился в свете с «мадам Лидией». Они поселились в квартире на бульваре Монпарнас вместе с ночной сиделкой и кухаркой, которых привезли из Ванса. Лидия, без которой уже не могли функционировать ни мастерская, ни домашнее хозяйство, оказалась в довольно двусмысленном положении. В Париже не знали, как к ней обращаться, как с ней себя вести, да и вообще возможно ли всерьез принимать женщину, совмещающую роль секретаря с обязанностями модели, сиделки, компаньонки и помощницы в мастерской. Представители мужского пола, пытавшиеся восстановить деловые отношения с Матиссом, были заинтригованы дамой, чье присутствие в квартире художника оставалось практически незаметным. Семейные пары не решались принимать ее. Игнорировать же «мадам Лидию» было невозможно: художник назначал встречи и вел все дела только через своего секретаря.
«Я постараюсь затаиться и вести себя так, словно меня здесь нет», — говорил Матисс, возвращаясь в Париж. Но едва он появился в столице, как его план рухнул. После полудня в квартире на бульваре Монпарнас уже не было прохода от журналистов, правительственных чиновников, организаторов выставок, дилеров, кураторов («Париж — сущий ад», — написал он через две недели Рувейру). Все оставшееся время отнимали издатели и дантист. Через месяц у него начался бронхит. Потом затопило подвалы Банка де Франс и хранившимся там работам потребовалась срочная «реанимация», на что ушли последние силы. Запланированные на Париж десять недель растянулись на четыре месяца, а большую часть драгоценного времени пришлось потратить на оценку ущерба, нанесенного произведениям искусства, а также выравнивание холстов и высушивание графических листов. Матисс редко выходил из квартиры — только изредка в кинотеатр (первый цветной фильм с Дэнни Кеем[255]стал для него настоящим откровением) или в тир на бульваре Монпарнас, где они с Лидией брали в руки винтовки и так снимали стресс[256].