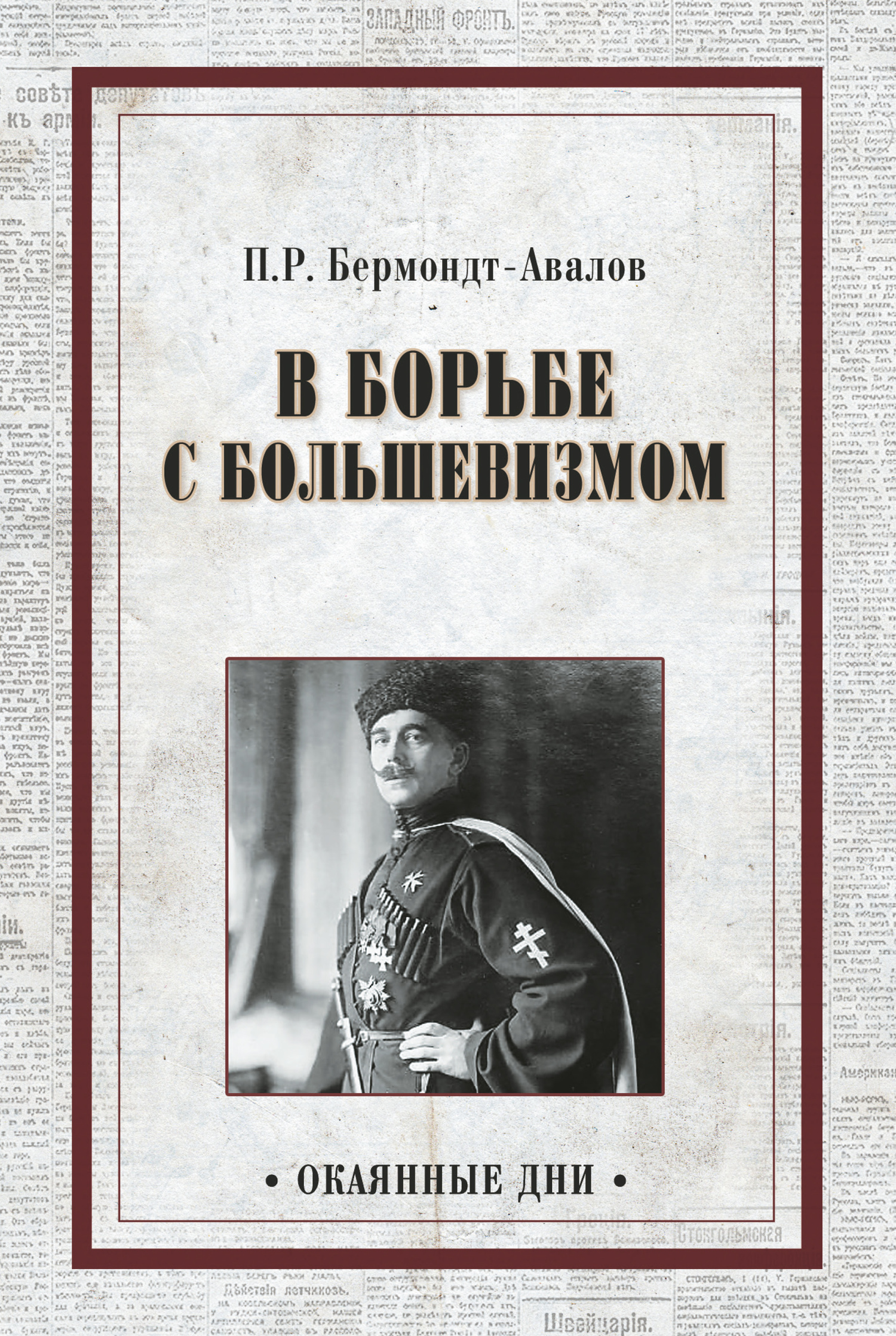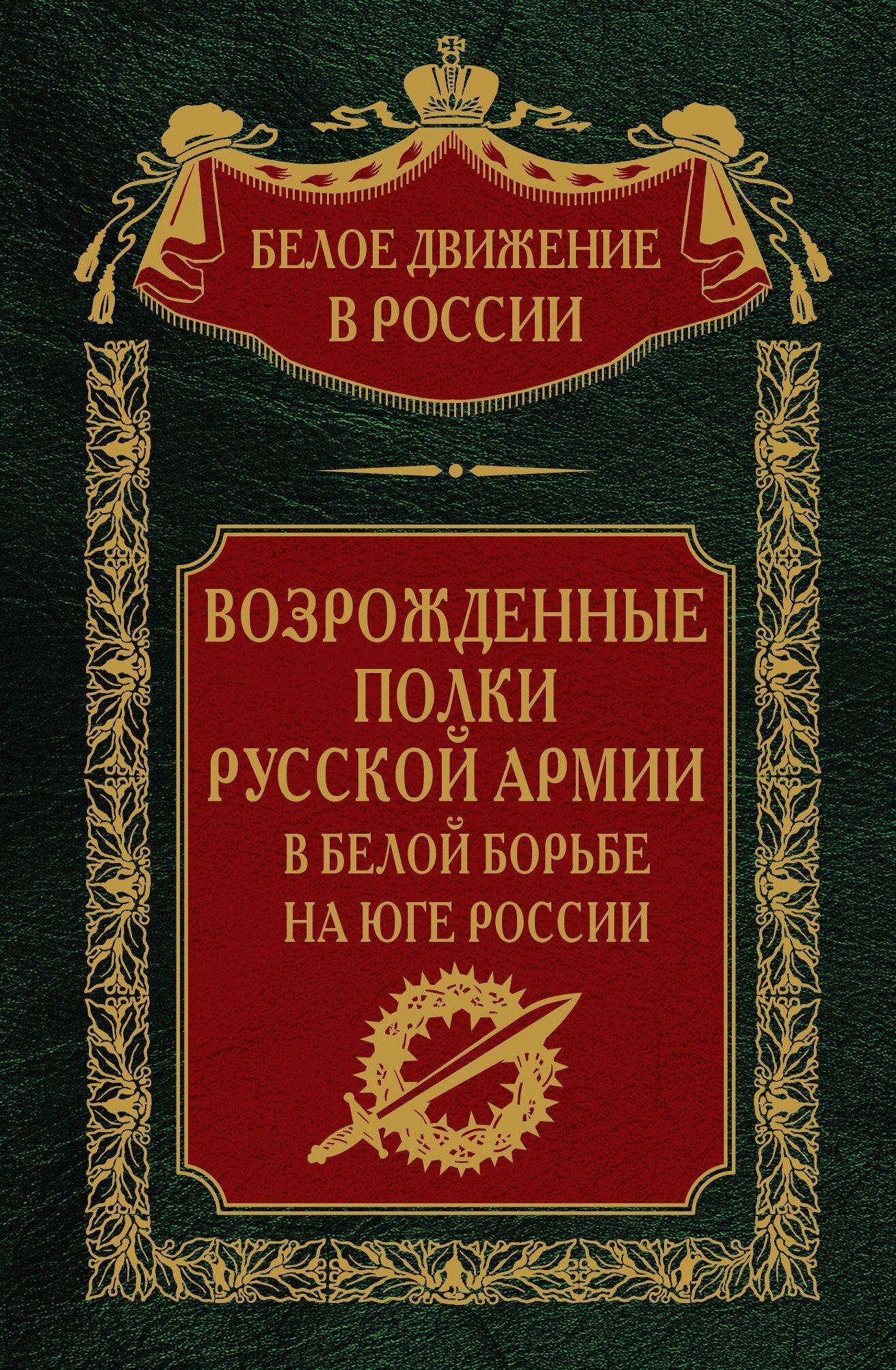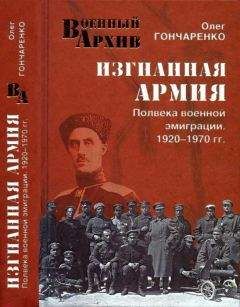в надежде на привет и ласку. Я погладил их русые головки и, не оглядываясь, вышел за калитку.
Нужно было исполнить обещание, данное жене. Я хотел сказать по телефону из усадьбы знакомых, живших летом в Свидере, что побывал в приюте, поеду в лагерь и вернусь не скоро, но она меня перебила:
– Знаешь ли ты, что немцы увозят свои семьи из Варшавы? У нас побывал Б.К. Постовский. Он привез мне и нашей дочери пропуск в Равенсбург. Поезд отойдет в два часа, с восточного вокзала. Что ты мне посоветуешь? На всякий случай я собрала вещи, но ждала твой звонок.
– Уезжайте, – ответил я, – даст бог, увидимся…
Я не мог вернуться в город, не позаботившись о детском лагере. Ничто меня к этому не принуждало, кроме воспитания, с детства готовившего к службе государству. Я был школьником, когда рухнула империя, но в эмиграции возник новый общественный долг. Комитет был для русских варшавян единственным заступником и прибежищем. Я не мог обмануть их доверие.
Сказав жене еще несколько слов, я прервал разговор и вызвал к телефону А.В. Шнее. Я приказал немедленно закрыть лагерь; сдать детей тем родителям, которые на воскресенье приехали в Михалин, а остальных перевезти в городской Дом Молодежи. Я предупредил, что дождусь на станции в Свидере известия о выполнении этого распоряжения.
На вокзале, в неурочный час, толпа дачников ждала поезда в город. Она казалась спокойной, но, конечно, знала, что эвакуация немцев из Варшавы началась. События придвинулись вплотную. Красноречивым доказательством были плакаты, прибитые к деревьям в двух шагах от станции. Белый орел – польский герб – поднимал на них свои крылья на малиновом щите. Одинокий всадник выехал из лесу, взглянул на толпу, круто повернул и ускакал в сторону Михалина. Партизаны – мелькнула мысль – прислали разведчика. Первый поезд пришлось пропустить. Наконец, показался А. В. Шнее.
– Ваши указания, – доложил он, – исполнены. Дети идут из лагеря пешком, но удалось раздобыть подводы для перевозки их вещей.
Погрузка прошла благополучно. Дома я застал тишину. Канцелярия, ради праздника, не работала. У входных дверей, в небольшой комнате, дремал дежурный. Домоправительница взволнованно сообщила, что моя жена и дочь давно уехали на вокзал. Тесть, старый генерал, вернувшийся из дальней церкви, их не застал.
В том же вагоне, что и моя семья, Варшаву покинула девочка, которую тогда называли Лялей Егоровой. Нельзя говорить о ней, не сказав предварительно несколько слов о Б. К. Постовском.
Он был сыном сенатора, мимолетно побывавшего министром юстиции в бурные дни 1905 года. Воспитывался в Петербурге, в Императорском Училище Правоведения, которое почему-то не окончил; получил высшее образование на юридическом факультете столичного университета; в Первую мировую войну был в санитарном поезде уполномоченным Красного Креста. Революция его не разорила, так как принадлежавшее ему полесское имение отошло по Рижскому договору к Польше. Он в нем не жил, а занялся продажей изделий польских и карпатских кустарей в другие страны, преуспел на этом поприще, был даже правительственным комиссаром польского павильона на международной выставке в Кенигсберге. В 1940 году, при создании Русского Комитета в Варшаве, его выдвинул в правление кружок бывших членов Общества Русской Молодежи в Польше. Сердце мое никогда к ним не лежало, и предчувствие не обмануло. После поражения Германии, в 1945 году, возглавители этого кружка – Д.Д. Шумилин и В. В. Макшеев – стали в Польше активными сотрудниками коммунистической власти. На Б.К. Постовского это тени не бросает – до конца своей жизни он остался противником большевиков.
Основной чертой его характера была напористость. Он не умел и не хотел замкнуться в рамки общественной дисциплины. Это приводило к столкновениям с теми членами комитетского правления, компетенцию которых он иногда нарушал своим вмешательством. Приходилось улаживать эти споры и закрывать глаза на то, что порой он отзывался критически и обо мне.
Я ценил его активность, полезную русским варшавянам. Не ограничиваясь в комитете отведенными ему по уставу рамками возглавителя торгово-промышленного отдела, он охотно брался за любое полезное и нужное дело. Я был особенно рад его участию в сношениях с немецкими учреждениями в Кракове и Варшаве – низкопоклонством он не страдал и никогда не унижал русское достоинство. Его настойчивость помогла мне наладить помощь советским военнопленным в Уяздовском госпитале. Он же создал в Варшаве русскую общину сестер милосердия, заботившихся в германских военных лазаретах о так называемых восточных добровольцах.
Неоднократно он обращался ко мне с просьбой о помощи тому или иному русскому эмигранту. Все же я удивился, когда летом 1943 года он попросил меня подписать удостоверение о русской национальности девочки, которую назвал Еленой Егоровой, дочерью пропавшего без вести офицера. Ею, по его словам, занялась, после исчезновения отца, хорошо мне известная русская варшавянка.
Просьба была незначительной, но именно поэтому показалась мне странной. Она была очевидной попыткой обойти установленный порядок выдачи таких удостоверений. Ей предшествовала проверка, которой занимался не я, а главная канцелярия комитета на аллее Роз. Мне докладывались только редкие, сомнительные случаи. Явное желание Б. К. Постовского нарушить установленное правило показалось мне странным. Я сказал, что хочу увидеть ребенка.
Дня через два в мой кабинет вошла с Постовским девочка, которой – по данным предъявленной мне анкеты – было десять лет. Выглядела она старше и была тщательно, нарядно одета. Мало кто так одевал тогда в Варшаве детей. Светлая соломенная шляпка была украшена синей бархатной лентой. Из-под нее на плечи ложились волной темные кудри. Матросская блуза и короткая юбка не вязались с ростом и сложением, но красивое, спокойное лицо могло быть названо детским.
Б. К. Постовский был по обыкновению словоохотлив. Девочка, остановившись у двери, не сказала ни слова. Я взглянул на нее, нажал на письменном столе янтарную кнопку звонка, вызвал из канцелярии моего секретаря, передал ему анкету, в которой Елена Егорова была названа дочерью русского и грузинки, и распорядился приготовить удостоверение. Подписав его, я подвергнул не только себя, но и мою семью смертельной опасности, угрожавшей каждому, кто – хоть косвенно – был причастен к укрывательству евреев, но мог ли я отказать в помощи ребенку? Я подчинился одному из тех душевных движений, которые сильнее осторожного расчета.
Правду о Ляле рассказала мне позже та дама, которая заботилась о ней в Варшаве. Лишившись сына, считавшего себя поляком и погибшего в страшном немецком лагере Аушвитце, она помогла не только этой девочке. Назвать ее я, к сожалению, не могу – она не хочет ни славы, ни награды.
Елену Егорову в действительности звали Теней Розенманн. Она родилась