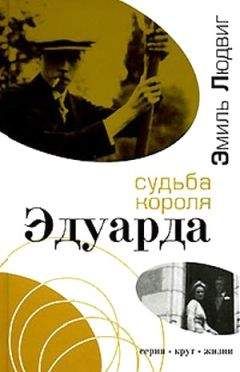Не только политические, но и социальные воззрения престарелого Гёте предвосхитили его время на целое столетие. Абсолютная веротерпимость царит в фантастической стране Вильгельма Мейстера. Что же касается собственности, то Гёте полагает, что она должна быть обобществлена. Правда, о мерах, необходимых для этого, он говорит намеренно глухо. И все-таки мы читаем: «Если частная собственность кажется обществу священной, то владельцу ее она кажется таковой вдвойне. Привычка, впечатления отрочества, уважение к предкам, неприязнь к соседу и сотни подобных причин делают собственника существом косным и противящимся любым изменениям. Вот почему чем дальше удерживаются подобные обстоятельства, тем труднее провести повсеместно меры, чтобы отнять у отдельного лица то, что окажется полезным для всех. Впрочем, благодаря обратному действию неожиданно выясняется, что меры эти оказались благодетельными и для того, кто лишился собственности». Абсолютно прав Ример, говоря, что только благодаря ханжескому обману удалось фальсифицировать «Годы странствий», превратить их в какую-то пародию, в проповедь поповской морали.
Но нигде Гёте не выразил свои социальные воззрения с такой силой, как во второй части «Фауста», содержание которого он некогда сформулировал, как «наслаждение действительностью и красота». Эта «Часть II» — самое фантастическое, из всего созданного Гёте. По временам кажется, что стариком, утверждавшим, что никогда еще сознание его не было столь ясно, как во время работы над трагедией, Завладели им же созданные духи. Чудится, он сам готов крикнуть себе слова, которые во время придворного представления кричит Мефистофель обуянному ревностью Фаусту: «Твоя ведь это глупая затея!» Где еще, за исключением разве некоторых сцен «Пандоры», создавал Гёте такой сказочный мир, как тот, что бушует в его «Классической Вальпургиевой ночи»? Такие моря со всеми их чудищами, таких грифов, сфинксов, сирен, нимф и форкиад! Гёте черпает свои фантазии из какого-то воистину неиссякаемого источника. Здесь есть даже человек, изготовленный химическими средствами в стеклянной колбе, который путешествует на дельфине. Все эти существа живут, двигаются, разговаривают, все обладают яркой индивидуальностью.
Когда башенного стража Линцея, ослепленного красой Елены и поэтому не возвестившего о ее прибытии, влекут закованного в цепи пред очи царицы, кажется, что мы присутствуем при некоем чудесном обновлении, что здесь наступила вторая зрелость и силы, долго не проявлявшиеся, проснулись вновь и подняли уже достигшего предельного возраста поэта на новую, еще более высокую ступень. А все-таки классическое празднество классических духов — это только сверкающая ирония, обращенная на знание и науку, на бога и искусство, на самое вселенную. И, кажется, Нерей ясно выражает эту иронию, когда, слыша, как стучатся люди, рвущиеся к нему, говорит: «Все с божеством хотят они сравняться, а выше равных, нет им сил подняться».
Однако и в этих сценах, и в сцене при дворе императора, Гёте еще удается облечь свой бездонный скепсис в форму светлой иронии. В дальнейшем этот свет исчезает. Ирония становится едкой. Впрочем, еще более едкая ирония звучит в «Кротких Ксениях». В них резко проявилось озлобление поэта, направленное против всех его врагов — глупцов, ханжей, филистеров.
Все мрачнее становится настроение Фауста. Все сильнее гремит его скепсис, как и скепсис Гёте. Все только дурачество и дерьмо и вообще ничего, — гласит одно из Гётевых двустиший.
Оглядываясь на юность, Гёте замечает, что жизнь человека подобна стратегии. Мы начинаем в ней разбираться только, когда поход окончен. «Остаток жизни нам безразличен, — говорит Гёте (ему пошел уже восьмидесятый год). — Мы уже не обращаем на нее внимания. Пусть себе идет, как идет, все равно мы кончаем квиетизмом, как индийские философы». Еще один шаг, и старик превратится в Мефистофеля. «Долго жить — значит многих пережить, пишет он Цельтеру, у которого умер сын. — Так звучит жалкий припев к нашей жизни, которая течет на манер разболтанного водевиля. Без конца повторяясь, он раздражает нас и заставляет возвращаться к серьезным стремлениям. Иногда мне кажется, что круг самых близких мне людей подобен связке таинственных письмен. Одно за другим пожирает их пламя жизни, а пепел развеивают по ветру».
Впрочем, фантазия и скепсис были заложены еще в лейпцигском студенте. В нем тоже вечно боролись эти свойства, и ни одно не выходило победителем из борьбы. Гёте и к себе относится скептически. И когда кто-то называет его «старым маэстро», он возражает: нет, его следовало бы называть лишь «верным и усердным учеником природы и искусства».
А все-таки он прекрасно сознает собственное значение, особенно сейчас, когда, восприняв свое творчество как некое единство, пытается придать ему и форму единого целого. «Я по возможности использую оставшиеся мне дни, чтобы создать то, чего никто другой создать не может».
Но не только энергия, все страсти Гёте с особой силой проявляются в конце его жизненного пути. Не стареющее сердце все так же бьется гневом и нетерпением, непокорством и демоническими желаниями. И только эрос не звучит больше в хоре его страстей. Воинственный и злой старик со всем пылом защищает сейчас значение своего творчества. Даже крайний его педантизм исчезает. Снова, как бывало в юности, он хватает клочки оберточной бумаги или театральные афиши и пишет на них заметки, стихи, наброски ко второй части «Фауста».
Его другу канцлеру очень хотелось бы видеть Гёте всегда просветленным и мудрым. А вместо этого, он часто застает его полным противоречий, резким, раздраженным, отрицающим все и вся. В таком настроении юношеского непокорства и написал Гёте на клочке бумаги:
Я один, и я уверен
В том, что не пойду с толпой.
Может быть, мой путь неверен,
Но зато он только мой.
Он становится еще нервнее и раздражительнее.
Невероятно боится самого короткого зимнего дня в году и уже 17 декабря радуется при мысли, что через несколько дней солнце начнет приближаться к земле. До конца дней своих он зависит от погоды, а болезни страшится, как величайшего из земных бедствий.
Он чаще впадает теперь в ярость. Правда, в таком состоянии его видят только самые интимные друзья. Когда Котта запаздывает с изданием его сочинений, престарелый Гёте пишет яростное письмо своему посреднику Буассере, потом сжигает его. «Злословие, — записывает хладнокровный друг и ученик после вечера, проведенного в обществе Гёте, — продолжалось: Париж, немецкие и французские партийные распри, княжеские причуды, порча вкусов, глупость, поповство во Франции и просветительская страсть к ереси в Германии и т. д. и т. п.». И слушатель признается, что ему, наконец, показалось, будто он попал на Брокен. Такие минуты возбуждения повторяются все чаще.