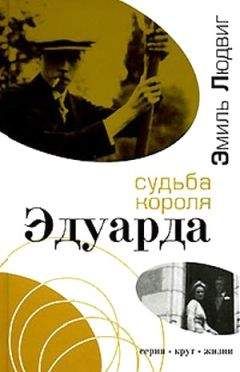Но я посвящаю их различным мыслям и решаю, что именно должен я сделать завтра… Так что, может быть, в эти еще отведенные мне дни я делаю больше и сознательнее, чем в годы, когда мы многого не успеваем сделать, потому что имеем еще право верить и воображать, будто нас ждет завтра, опять завтра и вечное завтра».
Однажды, открыв альбом своего внука, Гёте читает сентиментальное изречение: жизнь состоит-де из минут смеха, веселья, воздыханий и страданий. Тогда он берет перо и пишет мальчику:
Разбегаются минутки,
Циферблат торопит срок,
Час отсчитывают сутки
Время береги, сынок.
Старик так закован в броню своей деятельности, что обвиняет себя в «двух тягчайших грехах» в медлительности и в спешке. Зато другие свои письма он заканчивает словами: «Занят до сумасшествия». Наконец-то он находит формулировку, которая целых пятьдесят лет должна была бы характеризовать его деятельность. Наконец-то ему становится ясно, как следует сочетать науку и жизнь. «Величайшее искусство жить одновременно и в науке, и в миру — это умение превращать проблему в постулат. Тогда мы справимся решительно со всем». Какое мощное определение своей деятельности дал в этих словах старец! Кажется, он высек их на граните.
Да, только в самом конце жизни Гёте полностью раскрыл и определил себя как писатель. Его великая попытка войти в жизнь человеком дела и воздействовать на действительность, оказалась в конце концов бесплодной. Правда, в высокой степени плодотворной была его попытка исследователя открыть неизведанные области природы. Но в конце жизни он уже редко повторял ее. Наконец, эстетическая теория и практика, столь занимавшие его в Шиллеров период, тоже не дали ощутимых результатов.
Теперь он отстраняет от себя все. Для всего этого уже нет места на его письменном столе. Только самое сокровенное его произведение лежит здесь. Только оно должно созреть окончательно. И особое место в этой зрелости занимает чувственное начало.
Все море великое пламя объяло,
Хвала же Эроту: он жизни начало!
поет мощный хор сирен во второй части «Фауста».
В последний раз звучит здесь громоподобное, изначальное слово его жизни.
Мужественно, твердо, спокойно, нисколько не отрекаясь, взирает престарелый Гёте на эрос. Ибо все, даже эрос, должно стремиться сейчас к одному — все должно раскрыть свою беспредельную мощь.
В произведениях старого Гёте эрос присутствует только как здоровое чувственное естественное начало. Ведь брак, который приходится охранять ради сохранения общественного порядка, в сущности, противоестествен, говорит Гёте. Он высмеивает людей, которым нравится любое «святое семейство». Он недоволен последней редакцией своего «Гёца», в котором уже не осталось страстности Адельгейд, служившей такой притягательной силой. Фауста он заставляет восхищаться здоровым женским телом. А в своих последних «Ксениях» Гёте употребляет столь откровенные слова, что при печатании их приходится заменять точками.
Однако в самые последние годы Гёте уже не пытается изображать любовь. Мастер любовных сцен отказывается от них. Он боится, что ему «не хватит юношеского жара». Действительно, встреча нового Фауста с его возлюбленной Еленой оставляет нас холодными. Зато, когда Гёте переводит любовь в общефилософский план, тогда он создает поразительную шкалу всех ее оттенков.
Обращаясь к здоровому началу, избегая всего больного, Гёте всеми средствами охраняет теперь свою работоспособность. Все, что способствует работе, он приветствует. Все, что мешает, — отстраняет. Вот почему он не хочет ни говорить о беде, ни видеть ее. Сгорает старый театр. Он старательно избегает всех, чьи бесполезные аханья ему невыносимы, и немедленно берется за составление плана нового здания. Когда в дом принесли свалившуюся с лошади Оттилию, он ни разу не навестил ее, покуда ее изуродованное лицо не зажило совсем. Когда ему начали рассказывать о добром знакомом, который сломал обе ноги, Гёте воскликнул: «Нет, не портите мне его образ! В моем воображении он стоит совершенно здоровый!» Умирает старый актер, Гёте зовет к себе его сына, выходит к нему, говорит: «Я потерял старого соратника, ты — превосходного отца. Довольно!», жмет ему руку и исчезает. У Цельтера, у которого покончил с собой пасынок, теперь умирает сын. Гёте старается и в этом несчастье открыть какую-то сторону, чтобы смягчить боль отца. В этот самый поздний период окончательно формируются и политические воззрения Гёте.
Когда-то, в расцвете сил, он стоял за свободные формы управления государством. Позднее, заняв двойственную позицию, он выступал и в защиту революции и против нее. А еще позднее он стал врагом народовластия. Не случайно поэтому, услышав, как бранят диктатуру Веллингтона, восьмидесятилетний старик выступил на защиту победителя Наполеона и завоевателя Индии. При этом он очень ясно определил собственную позицию. «Обладатель высшей власти всегда прав, — заявил Гёте, — и перед ним следует почтительно склониться». Он предсказал падение Каподистрии, вождя греческих повстанцев, ибо не было случая в истории, чтобы политик подчинил себе командиров и войска. Только «держа саблю наголо и стоя во главе армии, можно повелевать и издавать законы в уверенности, что все станут повиноваться тебе». Это убеждение созрело в Гёте после того, как Наполеон разбил последние моральные и династические предрассудки, во власти которых еще находился поэт.
Но самое важное, — никто из современников Гёте не предчувствовал с такой силой одну из идей XX века, как этот глубочайший старик. Все свои последние политические надежды он возлагал на создание социальной кооперации внутри отдельных государств и на объединение этих государств в единый Всемирный союз. И была у Гёте еще вторая, великая, надежда — создание мировой литературы. Он верил, что «свободный обмен мыслями и чувствами способствует всеобщему достоянию и процветанию человечества не меньше, чем обмен продуктами». Указывая пути к объединению народов, Гёте не только говорил о тех же проблемах, о которых говорят и сегодня, — он говорил о них почти сегодняшними словами.
Так, в качестве первого условия для разрешения этих проблем он ставил уничтожение расовой ненависти, «симптома самой низкой ступени культуры». Сам он давно уже поднялся на ступень, где подобная ненависть исчезает, «Люди, которые достигли этой ступени, стоят в известной мере уже над нациями и воспринимают счастье и несчастье другого народа, как своего собственного». Описывая идеальную провинцию в конце своих «Годов странствий», Гёте вводит там правила социального общежития, которые должны лечь в основу Всемирного союза народов.