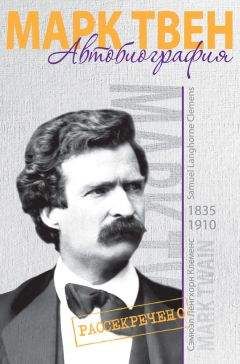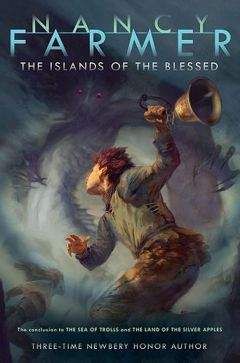– Проклятие! Он не остался в дураках!
Моей речи была дарована рискованная привилегия в виде почетного места. Я был последним в списке – честь, к которой ни один человек, вероятно, никогда не стремился. Очередь до нее дошла только к двум часам ночи. Но, поднявшись с места, я знал, что есть по крайней мере одно очко в мою пользу: текст обязан был вызвать сочувствие у девяти из каждых десяти присутствующих мужчин и у каждой женщины, замужней или одинокой, из той толпы, что стояла, сгрудившись в многочисленных дверях.
Я ожидал, что выступление пройдет удачно, – так оно и случилось.
В своей речи я метил в сравнительно недавно родившихся близнецов генерала Шеридана и в другие разнообразные вещи, выбранные с таким расчетом, чтобы завоевать успех. Я опасался только за один момент, и этот момент располагался там, откуда его нельзя было бы передвинуть в случае катастрофы.
Это была последняя фраза речи.
Я описал Америку через пятьдесят лет, с населением в двести миллионов душ, и говорил, что будущий президент, адмиралы и прочие выдающиеся личности этого великого грядущего времени лежат сейчас в разнообразных колыбельках, рассыпанных по широким просторам этой страны, а затем сказал: «И сейчас, лежа в колыбели где-то под флагом, будущий прославленный главнокомандующий американских армий настолько мало обременен своим грядущим величием и обязанностями, что сосредоточивает весь свой стратегический ум на усилиях засунуть в рот большой палец ноги. И это занятие не означает непочтения к прославленному гостю сегодняшнего вечера – ведь именно этим было занято его внимание примерно пятьдесят шесть лет назад…»
Здесь, как я и ожидал, смех прекратился, и воцарилось нечто вроде затаенного молчания – потому что высказывание явно заходило слишком далеко.
Я выждал секунду-другую, чтобы дать этому молчанию хорошенько укорениться, а затем, повернувшись к генералу, добавил: «И если ребенок – это не кто иной, как предшественник мужчины, то лишь весьма немногие усомнятся в том, что он преуспел».
Это позволило залу выдохнуть, потому что когда люди увидели, как генерал покатился со смеху, они с великим энтузиазмом последовали его примеру.
Это последняя из трех автобиографических рукописей, написанных Клеменсом в Вене в конце 1898 или 1899 года и ныне находящихся в составе «Архива Марка Твена». Он, по всей видимости, забросил, по крайней мере на время, автобиографию в том виде, в каком первоначально ее задумывал, в пользу «портретной галереи современников». Как сказал он одному интервьюеру в мае 1899 года: «Человек не может рассказать всю правду о самом себе, даже если убежден, что написанное им никогда не увидят другие» (Завещание Марка Твена; выходные сведения: Vienna, May 22, London «Times», 23 May 1899, 4, in Scharnhorst 2006, 333–334). Новый план, вероятно, был в какой-то степени обязан лекции под названием «Воспоминания о некоторых неординарных персонажах, с которыми мне довелось встретиться», которую он написал в 1871 году. Он прочитал эту лекцию, которая, по словам Твена, охватывала «всех его знакомых: королей, юмористов, сумасшедших, идиотов и так далее», только дважды. Насколько известно, ни один ее текст не сохранился, но в Вене он, судя по всему, воскресил ее ключевые моменты.
«Ральф Килер» является частью этого прежнего замысла, литературным портретом былого друга времен репортерства Клеменса в Сан-Франциско. Очерк относится к 1871–1872 годам, когда Килер был компаньоном Клеменса в его лекционных рейдах по пригородам Бостона. Рукопись не закончена – Клеменс оставил место под заголовком «Английский астроном», но так и не вернулся, чтобы его заполнить. Пейн напечатал этот текст со своими обычными ошибками и пропусками; Найдер перепечатал только часть текста, вставив выдержки из «Лекче таймс» и «Автобиографических диктовок» от 11 и 12 октября 1906 года (MTA, 1:154–164; AMT, 161–166).
Он был калифорнийцем. Я, возможно, знал его в Сан-Франциско в юношеские годы – примерно в 1865 году, – когда был газетным репортером, а Брет Гарт, Амброз Бирс, Чарлз Уоррен Стоддард и Прентис Мулфорд выполняли литературную работу для еженедельного периодического издания «Золотая эра» мистера Джо Лоренса. В любом случае я знал его в Бостоне несколькими годами позже, где он приятельствовал с Хоуэллсом, Олдричем, Бойлом О’Рейлли и Джеймсом Т. Филдсом и был весьма ими любим. Я говорю, он приятельствовал с ними, и это подходящее выражение, хотя сам он не дал бы этим отношениям столь фамильярного определения, потому что был скромнейшим молодым парнем на свете и смиренно смотрел снизу вверх на тех именитых людей со своей прозаичной безвестности и был по-мальчишески благодарен за дружеское внимание, которым они его одарили. И когда он получал улыбку и ободряющий кивок от мистера Эмерсона, мистера Уиттьера, Холмса, Лоуэлла и Лонгфелло, то видеть его счастье было истинным удовольствием. Ему было не более двадцати четырех лет в ту пору, природное добродушие его нрава не было омрачено заботами и разочарованиями, он был жизнерадостен, простодушен, полон надежд и весьма обаятельных и нетребовательных маленьких литературных амбиций. Всякий, кого бы он ни встречал, становился его другом и – повинуясь какому-то естественному и необъяснимому импульсу – брал под свое покровительство.
Он, вероятно, никогда не имел ни дома, ни детства. Мальчишкой, неизвестно откуда родом, он скитался по Калифорнии и энергично зарабатывал свой хлеб всевозможными скромными занятиями, постепенно образуя себя и проводя время с пользой и удовольствием. Среди его многообразных видов деятельности была чечетка в «ниггер-шоу». Когда ему было примерно двадцать лет, он наскреб восемьдесят пять долларов – банкнотами, что стоило примерно половину этой же суммы золотом, – и с этим капиталом объехал Европу и опубликовал отчет о своих путешествиях в «Атлантик мансли». Когда ему было примерно двадцать два года, он написал роман под названием «Гловерсон и его безмолвные партнеры», и не только написал, но и нашел для него издателя. Но это было не так уж удивительно в его случае, ибо даже издатель не может быть таким жестокосердным, чтобы посметь отказать определенной породе людей – а Ральф был из такой породы. Его благодарность за проявленную к нему благосклонность была такой простой, искренней и такой выразительной и трогательной, что любой издатель бы понял: даже если книга не принесет денег, все же из нее можно извлечь выгоду помимо денежной ценности и за пределами могущества денег. Книга не принесла денег, ни единого пенни, но Ральф Килер всегда говорил о своем издателе так, как другие люди говорят о божествах. Издатель, конечно, потерял на книге двести – триста долларов и знал, что потеряет их, когда пускался в это предприятие, но получил взамен много больше их стоимости в виде авторского восторженного восхищения по отношению к нему.