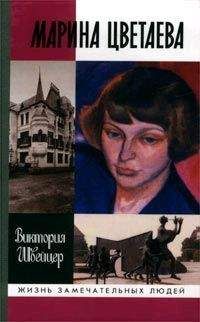Нечеловеческая тоска, тяготы, с которыми невозможно жить и от которых все равно нельзя избавиться, заставляют Цветаеву бежать из Франции. «Мы всходим на корабль» – и любой день покажется ненастным, и любой звук – скрежетом. В отличие от лирического героя Бодлера, чьи чувства – злоба, желание зла – обращены вовне, к человечеству, чувства лирической героини Цветаевой направлены внутрь ее собственной души. Она отказывается от гигантского образа пламени, сжигающего человечество злобой и жаждущего зла, и переводит его на собственные «тяготы» и «нечеловечью тоску». Вероятно, это субъективно, но в этой строфе бодлеровское «nous», точно переведенное Цветаевой как «мы», для меня определенно значит «я». Она не исказила Бодлера, но прибавила к его страстной боли еще и свою.
Некоторые страницы дорожной записной книжки Цветаевой приоткрывают ее наблюдения и мысли по дороге на родину. Вот поразившее ее красотой и таинственностью небо: «Вчера, 15-го, див<ный> закат, с огромной тучей – горой. Пена волн была малиновая, а на небе, в зеленов<атом> озере, стояли золотые письмена, я долго стар<алась> разобрать – что написано? Потому что – было написано – мне...» Неужели она не вспомнила это, когда в четвертом стихотворении «Плаванья» переводила слова об облаках («таинственная привлекательность <соблазн?> облаков»), превращающихся в роскошные города и самые знаменитые пейзажи? Ничто не может сравниться «с градом – тем, / Что из небесных туч возводит Случай-Гений...». Что пытался сказать ей Случай-Гений? Предупредить? Утешить?
«Как только я ступила на трап парохода, я поняла, что все кончено...» —призналась Цветаева Вере Звягинцевой в первые дни войны[232]. Единственные стихи в записной книжке, возникшие где-нибудь на палубе или в каюте, – о том же:
Пароход – думал?
Переход – душ.
И – отклик в переводе «Плаванья»: «Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо...» В этой строке Цветаева заменила бодлеровскую «Икарию», связанную с утопическими общинами и мало кому известную, на сказочное Эльдорадо, для русского человека – синоним рая. Ощущением «перехода душ» ее перевод пронизан еще в большей мере, чем сами стихи Бодлера.
На какое-то мгновение у нее возникает ассоциация с Наполеоном, плывущем в ссылку и навстречу смерти – на остров Святой Елены: «Ходила по мосту[233], потом стояла и – пусть смешно! не смешно – физически ощутила Н<аполеона>, едущего на Св<ятую> Елену. Ведь – тот же мост: доски. Но тогда были – паруса, и страшнее было ехать...» Цветаева честна с собой: ей страшно, но Наполеону было еще страшнее. Возможно, поднимаясь по трапу, она не только поняла, что все кончено, – она почувствовала дыхание смерти, с которым ей пришлось жить дальше. Но прожив больше года в Советской России, Цветаева сам страх смерти преодолела. Она вложила свои чувства в бодлеровские строки, переведенные ею с поразительной точностью: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило! /...О, Смерть, скорее в путь!..» Цветаева «взошла на корабль» в Гавре 12 июня 1939 года и «пустилась в плаванье» на советском грузопассажирском судне «Мария Ульянова», имевшем недобрую славу среди русской эмиграции: были серьезные подозрения, что на нем увезли похищенного генерала Миллера; и не на нем ли исчезли участники убийства И. Рейсса? Сейчас он вез испанцев, бежавших от генерала Франко. Дорожная записная книжка свидетельствует, как остро продолжает Цветаева чувствовать, наблюдать; как может отрешиться от безвыходной ситуации и думать о высоком; как мужественно держится и справляется с нелегким путешествием; как не теряет чувства юмора... Мур «блаженствует»: среди испанцев, которые отлично говорят по-французски, у него появились приятели; испанцы днями и ночами поют и танцуют и он проводит время с ними, лишь изредка забегая в каюту. Цветаева дает сыну свободу: «не хочу... мешать и – не знаю, мне лучше одной». В ней живо чувство, с которым она прежде думала о Советском Союзе: там она наверняка потеряет Мура. Теперь, видя его погруженным в чуждую ей жизнь, можно поставить точку: «Хорошо, что уже сейчас, что сразу показал... мое будущее».
Из Гавра Цветаева отправила несколько прощальных открыток и письмо к А. А. Тесковой; на пристани простилась с «последней пядью французской земли». Кончился огромный период жизни, впереди ждала неизвестность; в глубине сознания – предчувствие гибели... Среди веселящихся, ликующих испанцев одиночество ощущалось особенно остро: «Всё время думаю о М<аргарите> Н<иколаевне> [Лебедевой. – В. Ш.], только о ней, как хотелось бы ее – сюда, ее покой и доброжелательство и всепонимание. Еду совершенно одна. Со своей душою». Ей еще предстояло узнать об аресте сестры.
18 июня 1939 года «Мария Ульянова» пришвартовалась в Ленинграде. Прибывший с Цветаевой немалый – 13 мест – багаж должен был пройти таможенный досмотр. Он подробно описан в записной книжке: «Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до дна весь багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь, уложенную как пробка штопором... Мурины рисунки имели большой успех. Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений. (Хорошо, что так не нравятся – рукописи!) Про рук<описи> не спросили – ничего...» Цветаева пишет уже в поезде Ленинград – Москва. В Ленинграде для приехавших организовали экскурсию по городу, Мур поехал вместе с испанцами; Цветаева осталась в вагоне с вещами.
19 июня – после семнадцати лет эмиграции – Цветаева вновь оказалась в родной Москве. Можно ли было считать «той страной» место, куда она вернулась?
Если раскроешь газету «Известия» за воскресенье 18 июня 1939 года – вряд ли Цветаева сделала это в день приезда – убедишься: да, страна существовала, кипела событиями. Заголовки первой полосы сообщали: «Дадим стране высококачественный кокс!», «Вручение орденов и медалей Союза ССР», «Тираж Займа третьей пятилетки», «За разбазаривание средств по государственному социальному страхованию – к судебной ответственности». Передовица была посвящена Максиму Горькому: «Гигант мысли и волшебник слова». Вся третья полоса под шапкой «Великий пролетарский писатель» – заполнена им же в связи с трехлетием его смерти и состояла из банальностей, соответствовавших заголовкам. Привычный советский читатель пропускает такое мимо глаз и ушей. Однако Цветаева могла бы не без интереса прочесть заметку А. Сперанского «Третья годовщина», разоблачавшую убийц Горького и кончавшуюся патетически: «Убийцы Пушкина – насколько же по-своему они были честнее!» Вслед за этим на четвертой полосе с равным энтузиазмом сообщалось о детском спортивном празднике на стадионе «Динамо», о переписи населения на Крайнем Севере, о постановке оперы «Иван Сусанин» по заново сочиненному Сергеем Городецким либретто, о том, как расцвел при советской власти Московский зоопарк, которому только что исполнилось 75 лет... В филиале Большого театра шла в этот вечер опера «Мать» по роману Горького, у некогда дружественных вахтанговцев – пьеса Алексея Толстого «Путь к победе». Со страниц газеты жизнь била ключом, но это была незнакомая жизнь, непохожая даже на ту, из которой она уехала семнадцать лет назад. Все было другим: представления о человеческих ценностях и отношениях между людьми, новый, уже установившийся быт, новая лексика и фразеология. Эфрона могла бы привлечь в этом номере крохотная заметка на второй полосе – для него она звучала зловеще: «Казнь Вейдемана. 17 июня... В Версале приведен в исполнение смертный приговор над Вейдеманом, совершившим в Париже под видом грабежа 6 политических убийств. В ходе судебного следствия Вейдеман был разоблачен как агент гестапо (германской тайной полиции)»...[234]