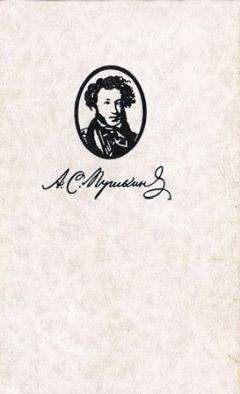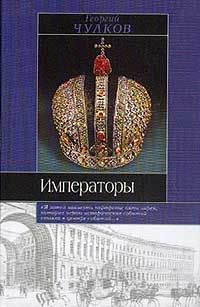Ознакомительная версия.
— Куда это сапожищами прямо на паркет!
Мужики засмеялись невесело. А Трифон показал ей кулак.
— Молчи, ведьма. Отъелась на господских харчах.
И вот стали вытаскивать из дома что попало. Долго кряхтели над роялью, отвинчивая ножки. Под конец все-таки уронили, и внутри что-то загудело, как будто живое. Александровскую гостиную выволокли в сад. Потом павловскую столовую[1294] карельской березы. Решили в каждую избу по креслу. Диван взял себе хозяйственный Петр, убедительно объяснив, что так будет лучше. Посуду решили не делить, а чтобы не было обидно, швыряли фарфор из окон, метясь в старую липу. Вся площадка перед домом усеяна была осколками. Но и эта забава как-то не веселила. Все было чего-то страшно. И даже мужики озирались, как будто сейчас придет судия, власть имеющий. А когда стало смеркаться, на всех напал непонятный ужас и захотелось настоящего хмеля. Опять пошли обыскивать подвал и нашли еще два ящика с водками. Пожалели, что посуда перебита. Пришлось пить из горлышка.
Совсем пьяные, шатаясь и горланя песню, пошли мужики из господского дома в конюшни. Там метали жребий, кому какая лошадь достанется. Хозяйственный Петр, сравнительно трезвый, повел домой трех кобыл. Иные ничего не получили. Дележ кончился. Остался один только Султан Третий, внук того коня, которого целовал на смертном одре покойный Булатов.
Султан был красавец. Мужики вдруг заспорили. Такого, мол, коня нельзя по жребию. Его надо холить. Производитель. Семь мужиков требовали — каждый себе. И начался большой беспорядок. Тогда порешили пока запереть Султана в конюшне, а всем вернуться в господский дом. Там нашли еще бочку.
Был уже вечер. Погасла заря. Малая ущербная луна чуть светила. Казалось, что господский дом окружили со всех сторон огромные черные призраки. Большие овчарки, привязанные в саду, дико выли. От этого воя, от черных теней, надвинувшихся на сад и двор, сжималось сердце. Не верилось, что когда-нибудь заалеет утренняя заря.
Когда мужики вернулись из конюшни в дом, они там нашли баб и девок. Они уже допили бутылки и, хмельные, громили сундуки и гардеробы. Иные тут же сбрасывали с себя юбки и напяливали господские платья. Матрена, жена хозяйственного Петра, надела на себя платье булатовской бабушки с кринолином. Две девки, обнявшись, валялись на огромной кровати Марьи Николаевны.
Но все чувствовали, что все это скучно, тоскливо и тошно, что жизнь вообще страшна, что на земле все равно будет тесно, хотя барыни и уехали в город, испуганные и обиженные.
— Погромить бы чего! — опять стонал рыжий мужичок, теперь уже пьяный.
— Да ведь и так громим, — мрачно засмеялся Трифон.
— Это что! — бормотал рыжий. — Разве так громят! Надо бы вовсю. Разгуляться бы надо.
— Тебе что ж — весь мир поджечь, что ли, охота?
— Не худо бы.
Трифон засмеялся еще громче и со страхом оглянулся назад: ему показалось, что кто-то черный, лохматый положил ему лапу на плечо.
У старика Власия в руках оказался топор. Старик разбил шкаф с книгами и теперь стоял над ним, недоумевая.
В толпе, которая сгрудилась вокруг бочки, заговорили опять о жеребце. Хозяйственный Петр отступился, чувствуя, что это добром не кончится. Зато упрямо требовал себе жеребца Игнат, бывший объездчик.
Трифон, озлившийся почему-то, подошел к Игнату вплотную и сунул ему кулак под нос:
— Видал? Я беру жеребца…
Игнат отступил на шаг, размахнулся и ударил Трифона в висок тяжело и звонко. Трифон пошатнулся, но удержался на ногах и крикнул хрипло:
— Ударь. Ударь. Ударь Трифона…
Игнат испугался, но все-таки не удержался и еще раз ударил противника по голове.
Тогда Трифон, оскалив зубы, бросился на Игната и, дав ему подножку, повалил на землю. Придавив ему живот коленом, Трифон схватил мужика за горло.
Из толпы выскочил рыжий и закричал:
— Никому жеребца не дадим! Сожжем его, ребята! Все к черту на рога! Светопреставление, братцы!
И он бросился опрометью в конюшню. Мужики завыли, засвистели, заулюлюкали и повалили толпою вон из дому.
На дворе было совсем черно, потому что луну закрыла большая туча. Кто-то зажег красный фонарь. Жеребца вывели из конюшни. Он стоял огромный, статный, перебирая ногами и чутко пошевеливая ушами.
— Пакли, ребятушки, пакли!
Оказалась и пакля, и несколько мужиков принялись увязывать паклю по спине у Султана.
— Где керосин? Тащи, ребята, керосин! — вопил рыжий. Откуда-то принесли керосину, и сам Трифон, довольный, что конь никому не достанется, подошел к жеребцу и окатил его керосином.
Султан шарахнулся в сторону, и один мужик застонал, опрокинутый на землю, но на него никто не обратил внимания.
— Теперь поджигай, ребятушки, поджигай!
Костер на спине у жеребца задымился, заискрился, вспыхнул красным огнем. Конь рванулся и вылетел в открытые настежь ворота.
Толпа заревела. Казалось, что вместе с горящим жеребцом вылетел из этой усадьбы ночной страх. Конь помчался мимо пруда на большак, светясь во мраке красным заревом.
Мужики побежали свистя. Иные падали, ругаясь непристойно.
Один мой приятель, старый чекист, немало зловредных людей отправивший туда, «где же несть болезни, печали и воздыханий»,[1296] и в конце концов сам застрелившийся в Серебряном бору по мотивам весьма сокровенным, оставил мне в наследство прелюбопытную тетрадку, копию документика, оказавшегося у него в руках при ведении одного следствия. Это записки явного контрреволюционера, который наивно воображал, что их никак не найдут представители нашей советской власти. Но этому тарантулу не удалось утаить от нас свои ядовитые свойства. Правда, пришить эти мемуары к какой-нибудь реальной политике нет никакой возможности. Дела из них состряпать нельзя… Но психология! Психология!.. Тут особого рода вредительство — тончайшее и, так сказать, высшего порядка. Хитрец и сам догадывался, что с нашей точки зрения, он паук и вообще гад.
Он, к сожалению, ускользнул от нашего возмездия, но его мемуары говорят сами за себя. Они, можно сказать, назидательны и не требуют никаких объяснительных примечаний. Все ясно. Автор — типичнейший представитель вырождающегося класса, обреченного на гибель. Итак, вот вам документик.
I
Я пишу эти записки по ночам, но я не так прост, и у меня, на случай приезда незваных гостей, все приготовлено. Я просовываю руку в форточку, вынимаю кирпич — и моя рукопись в надежном месте. Это дело одной минуты, даже менее. Я многократно упражнялся. Моя комната в конце длиннейшего коридора. Пока они будут преодолевать пространство, стучать в дверь и прочее, я успею закрыть форточку, и у меня ничего не найдут. Впрочем, по стенам у меня портреты вождей, и сам я пользуюсь репутацией безупречного советского гражданина. Едва ли придут ко мне с обыском. Вот разве кто-нибудь сочинит донос. Но и это маловероятно. Я живу скромно. Я помощник бухгалтера в Сопиковском тресте. Я холостой. И в прошлом у меня все благополучно, если только не считать подозрительным моего университетского образования. Я математик и был оставлен при кафедре нашим известным ныне покойным профессором Б. Ну теперь, разумеется, я спрятался и о кафедре не помышляю. Теперь надо быть незаметнее. Мне вот предлагали место главного бухгалтера, но я, конечно, уклонился. Главное, надо спрятаться.
Ознакомительная версия.