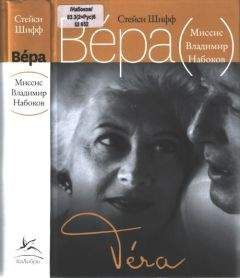Вера без устали твердила друзьям, что работа дисциплинирует ум, здоровье, радует ее. В то же время продолжается ее тихое самобичевание. На восемьдесят втором году жизни, все еще способная целыми днями сидеть за письменным столом (теперь она наловчилась писать в своем кресле), Вера по-прежнему уверяла, что не обладает ни малейшим эпистолярным талантом. Сильвия Беркмен, причем не она единственная, говорила Вере: почему бы ей не написать книгу о Владимире; Вера отвечала, что и русский, и английский у нее не достаточно для этого хороши. Она не собирается сделаться вдовой-литераторшей, как Фанни Стивенсон или Анна Достоевская, и даже не вдовой-лжелитераторшей, как Флоренс Харди, под чьим именем вышла так называемая биография, которую ее муж сам диктовал ей, своей жене, перед смертью. Вера не гонится за тем, чтоб сказать последнее слово. При том, что Вера восхищалась воспоминаниями Надежды Мандельштам о своей жизни с поэтом (что во многом, с учетом совсем иных условий, перекликалось и с Вериной жизнью), она не изъявляла желания следовать ее примеру. Как не входила и ни в какие союзы вдов. Никакого слета тигриц; никаких консультаций по издательским делам, что случались между графиней Толстой и Анной Достоевской. Вера, не исключено, прочла книгу «Русские вдовы», выпущенную Карлом Проффером в 1987 году и посвященную женщинам, поддерживавшим, пестовавшим и дополнявшим собой литературный процесс, но если и увидела что-либо знакомое в тексте или в подборе главных героинь, хранительниц культуры, то никогда об этом не обмолвилась. Она всегда держалась стороной, утверждая, как и ее муж, главенство индивидуальности. Ведь именно служению ему отдала Вера пятьдесят лет своей жизни. Труднее понять ее застенчивость, которую столько лет все принимали за высокомерие. Ее заваливали просьбами о встречах, интервью, мнениями те, кто хотел поговорить о литературе или просто поговорить: «Поскольку не могут пообщаться с В., просят разрешения пообщаться со мной (faute de mieux[343])». Причем невзирая на то, добавляет Вера, что она всю жизнь отбивалась от новых знакомств.
Конец 1970-х годов в основном ознаменовался для нее возвращением к переводам. Отредактировав «Память, говори» на немецком и «Смотри на арлекинов!» на французском, стихи мужа на итальянском, Вера взялась переводить на русский «Бледный огонь». Это произошло для нее случайно, когда она согласилась просмотреть перевод молодого поэта, рекомендованного Профферами. Задача оказалась не из легких — Уильям Бакли считал, что такой перевод невозможен, хотя в отношении Веры уже давно подозревал, что для нее «ничего невозможного нет», — но гораздо трудней оказались стычки с рекомендованным переводчиком. К своему ужасу, Вера обнаружила, что тот совершенно не чувствует стиль Владимира, плохо знает английский, да и с русским, особенно с литературным, у него проблемы. После нескольких таких обсуждений Вера отложила в сторону его перевод и принялась переводить роман сама с начала и до конца и закончила только в 1982 году. Потратив несколько лет на эту работу объемом в каких-нибудь семьдесят страниц, она особой радости в результате не испытала. Сравнивая свой труд с оригиналом, Вера впадала в жесточайшее уныние. «Уж хотя бы точно по смыслу!» — успокаивала она себя.
Весьма показательно то, как утверждался этот перевод. Сначала у Веры не было намерения ставить при издании свое имя. Однако впоследствии, учитывая громадные временные затраты, Вера согласилась вставить строкой, что перевод сделан под ее редакцией. Когда же русский «Бледный огонь» по недосмотру вышел без указания ее имени и вклада, она почувствовала для себя делом чести утвердиться. Раньше она, чтобы не оскорбить самолюбие молодого поэта, называла это совместным участием в переводе; теперь ее собственное самолюбие оказалось больно уязвлено. Прежде всего Вера пожалела о том, что оказалась так «по-глупому щедра». Потратив годы на исправление чужих «безграмотностей и ошибок», теперь она настаивала на собственном авторстве. Казалось, этот шаг предпринят сгоряча. «Теперь я решила стать беспощадной!» — уведомляет она Профферов. И оставалась этому девизу верна, как впоследствии обнаружил, столкнувшись с этим, один библиограф. Ему было строжайше наказано убрать всяческие упоминания о вышеназванном поэте. «Для меня это очень важно!» — подчеркивала Вера.
Но далеко не только «Бледный огонь» поглощал ее помыслы. Теперь даже в большей степени, чем прежде, Вера представляла интересы мужа, была чутким посредником между божественной материей и ее земными интерпретаторами. Уже давно она вменила себе в обязанность направлять переводчиков, художников-оформителей и правовые службы на путь истинный. Теперь она делала это с еще большим рвением. Допуская, что, возможно, чрезмерно придирчива, Вера не умела поступать иначе. Лишь сам Владимир мог бы дать санкцию в спорной ситуации, но его уже не было. Сомнительно, чтобы он разрешил публиковать свои стихи в сборнике рядом с мистическими прославлениями Ленина. А раз сомнительно, поясняла Вера редактору сборника, то ее правило — лучше воздержаться. Она извинялась перед редактором за излишнюю въедливость. «Вам может показаться, что я слишком вдаюсь в детали, — писала она, — однако стиль — это и есть детали». В. Н. считал, что один лишь стиль уже может составить биографию писателя; только в этом смысле Вера и творила историю своего мужа. Готовя к публикации его корнеллские лекции, она взяла себе за правило случай, о котором рассказывал отец и который явно запал ей в душу: некий римский писатель завещал, чтобы после его смерти к написанному им не смели ничего добавлять. С другой стороны, его наследникам разрешалось уничтожать все, что им заблагорассудится. Вера, как всегда, оставалась очень чуткой к опечатке, к небрежности, к неточности, к уродованию фразы, к утрате логики. Ничто не укрывалось от ее проницательного взгляда, как обнаружил и Джон Апдайк, направивший ей текст своего вступления к первому тому лекций. Оно было возвращено ему с тремя страницами язвительных Вериных замечаний. (В семнадцатом пункте у нее значилось: «Личная просьба: пожалуйста, не упоминайте в Вашей статье меня!») «Какой у нее изумительно ясный ум и стиль!» — восклицал Апдайк, правя написанное.
Со всей прямотой и дотошностью Вера трудилась ради сохранения поэтичности и тайны — на ее взгляд, двух основных черт — в творчестве мужа. Возмущений накапливалось много, как и всегда, только теперь Вера справлялась с этим в одиночку или с помощью Дмитрия, который часть года проводил в Монтрё и с середины 1970-х годов переводил книги отца на итальянский язык. Как мог английский художник сделать для «Защиты Лужина» такую мерзкую, псевдомодерновую обложку! Пожалуй, этот молодой русский писатель и многообещающ, но лучше бы он так явно не подражал Набокову. В письмах она воевала столь же яростно, столь же вдохновенно, как и полвека назад; пусть по-настоящему Зиной Мерц Вера не была, но она явно унаследовала от нее непримиримую прямолинейность. «Никто, кроме Вас — ни здешние студенты и коллеги, ни набоковские исследователи из разных стран, — не отбивает так мощно подачу критиков», — писал Бойд, благодаря Веру за комментарий на своих страницах. Когда Георгий Гессен опубликовал свои мемуары, Вера пишет ему, что знала всегда, как глубоко он привязан к Владимиру, и ее очень тронуло, что теперь об этом узнают все. Но то, что Гессен ужасен как писатель, оказалось для нее сюрпризом. В 1979 году Гарри Левин опубликовал свою рецензию на «Переписку Набокова с Уилсоном» в «Нью-Йорк ревью оф букс». «Я не собиралась ничего говорить про статью Гарри о „Переписке“, но честность для меня превыше всего, потому, возможно, лучше все-таки сказать, что эта статья меня очень огорчила», — писала Вера Елене. Лишь через полтора года она решилась выразить свое недовольство.