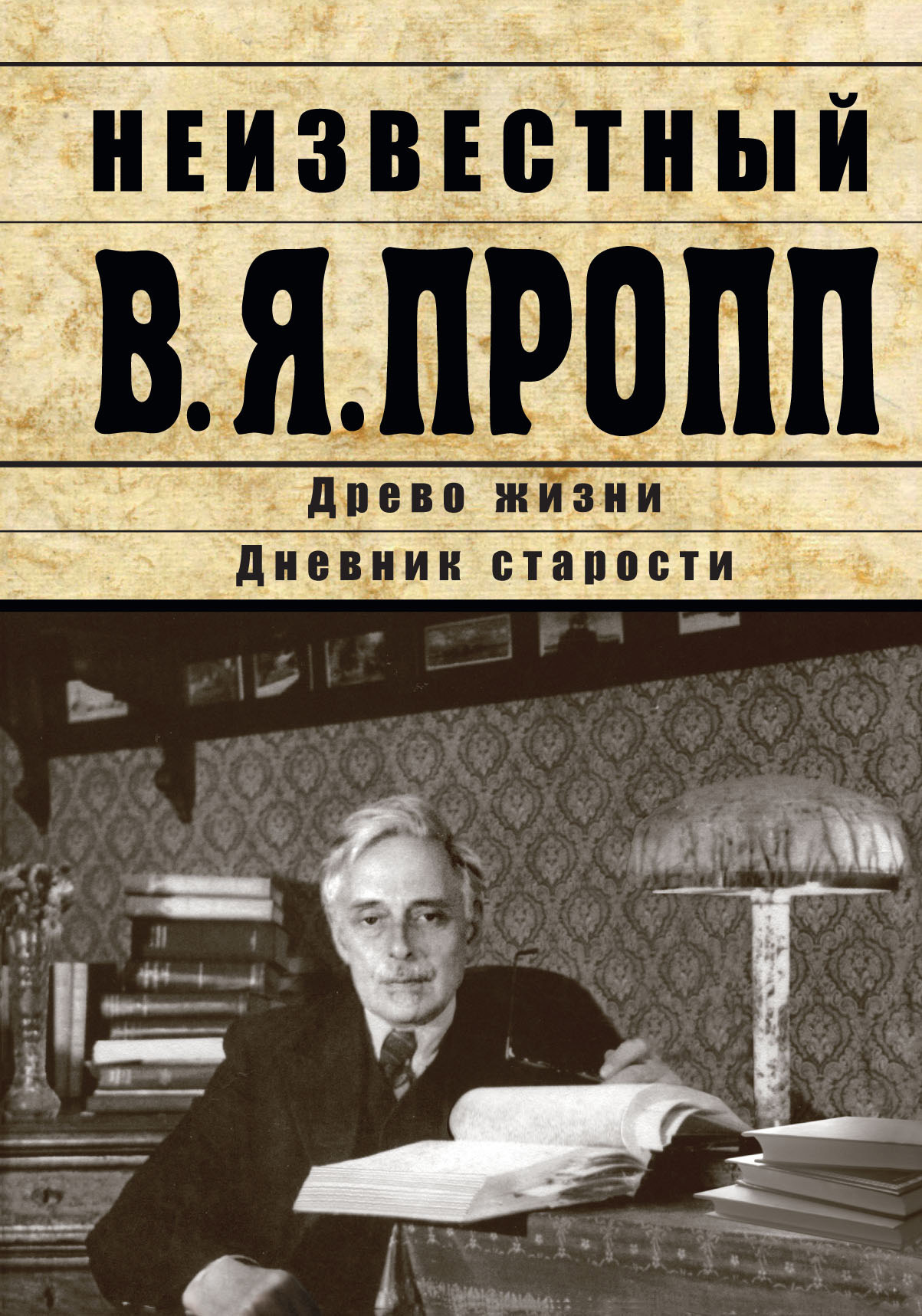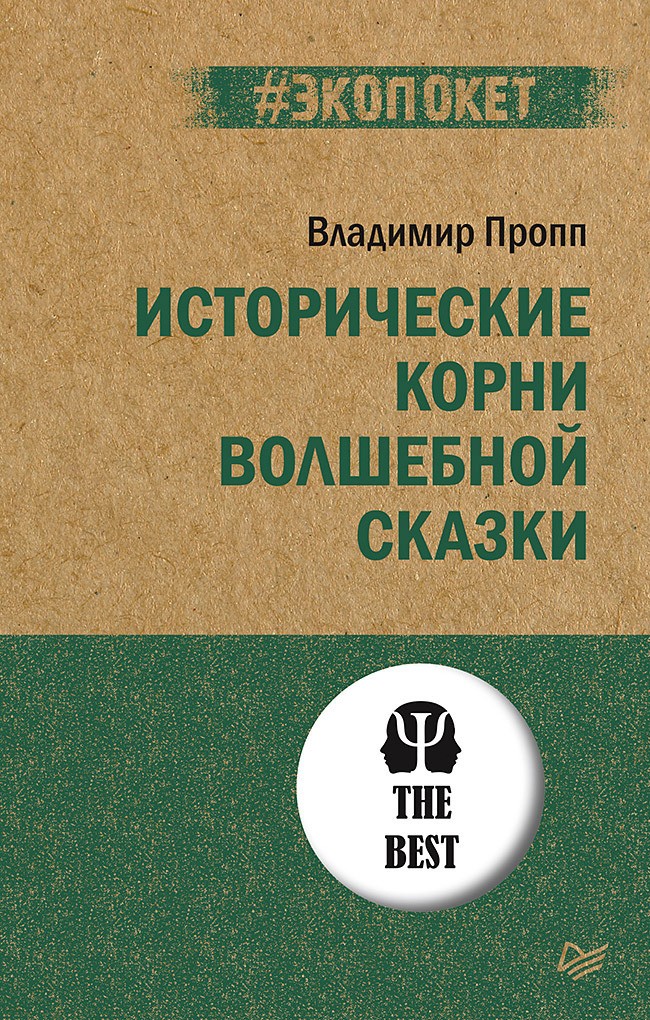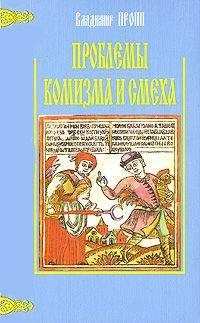(возможно, он сам только что оттуда вернулся), словом, открыть нам глаза на «правду». И что же? Мы пресекли его, дав понять, что говорить об этом и вникать в подробности подобных «слухов» нам ни к чему. И он растеряно и, кажется, обиженно умолк. Ретроградно, если не сказать подло (по крайней мере, по отношению к человеку, намеревавшемуся посвятить нас в горестную правду о своей стране). И это – молодежь, всегда обычно пытливая и чуткая к тому, что касается понятий совести и правды… А между тем мы все же дышали воздухом этой самой оттепели, тяготились изучением по идеологическим прописям «самой передовой в мире» советской литературы, старались как можно больше ухватить за ее контекстом, равно как и за пределами «единственно правильного» в мире марксистско-ленинского учения.
И в этом отношении мы чувствовали во Владимире Яковлевиче своего. Он, разумеется, не разоблачал перед нами отдельные несостоятельные положения советской фольклористики, печально обусловленные постылой и жесткой теорией классовой борьбы, демагогической верой в то, что и новая историческая действительность сверх меры способствует рождению традиционных фольклорных жанров («новины» и прочее) и что собирать и записывать их полагается, прежде всего, на первомайских, октябрьских и прочих политических демонстрациях. Его оппозиционные выступления носили на лекциях более тонкий характер. Так, знакомя нас однажды с библиографией по какой-то проблеме и дойдя до одного из авторов, он, между прочим, нас предупредил: прочтите прежде всего вот эти его работы и не предавайте значения тому, что, может быть, случиться вам прочесть в периодике тех лет о нем самом, – в нравах того времени нередко было исправлять неугодные концепции ученых заочно, даже не ставя в известность их самих; так, начавший однажды лекцию изложением своей концепции, он был прерван поднявшимся со своего места с усмешечкой на губах и с газетой под мышкой обратившимся к нему студентом: «Товарищ профессор, а вы ведь от этой своей вредной концепции отказались – вот, читайте…» И протянул ему пропечатанную в этой газетенке лживую информацию о его собственном будто бы отречении (состряпанную, может быть, даже с целью его спасти), которую он тут же нашел в себе мужество перед замершим в ожидании студенческим залом… не подтвердить. Кто был тот ученый, какова его судьба, к какому времени относился тот узаконенный произвол над правом ученого иметь свою концепцию – уже не помню. Понятно только одно, что совсем ненавязчиво, по ходу дела Владимир Яковлевич преподнес нам урок трагической стороны существования отечественной науки в хваленом недавнем прошлом, а также защитил и честь своего коллеги, если лживая информация о нем, помещенная в свое время в официозной, а по сути дела карательной, печати, все еще гуляет, имеет свое действие.
Коснусь теперь наших непосредственных личных контактов.
Как-то пришла моя очередь отчитываться на семинаре по избранной мной теме «Поэтика пословиц и поговорок». Тайна рождения поэтического образа всегда меня манила. Удивляло, за счет чего же ряд простых, с давно известными значениями слов (какими они помечены в словаре) вдруг начинают обретать новое значение? За счет чего образуется эта чудодейственная прибавка? Мне показалась тогда, что на такой малой художественной единице, как пословица или поговорка, эту тайну и можно будет как-то разгадать. И вот теперь, дождавшись своей очереди на семинаре, я и делился наблюдениями касательно этого жанра. Дело происходило в актовом зале на филфаке, где я сидел за столиком лицом к залу, а наша группа вольно располагалась в креслах напротив, преимущественно в правом от меня ряду (там же находился и Владимир Яковлевич). Он слушал меня внимательно, а когда я дошел до таких терминологических «откровений» в своих наблюдениях, как «ритмический рисунок» (в разных образцах этого жанра, развивал я свою мысль, ритмический рисунок в своей ударности то возрастает, то затухает. В чем тут причина – в синтаксической конструкции, лексической семантике или содержании? Попробуем разобраться… и проч.), мне показалось, что мой учитель даже одобрительно крякнул.
А затем произошло нечто, сделавшее меня, можно сказать, героем этого семинарского занятия и вообще…. В какой-то момент моего увлеченного истолкования поэтических тайн исследуемого жанра Владимир Яковлевич тихонько поднялся с места и осторожно, чтобы не помешать излиянию моей научной истины, направился к полуотворенной в коридор двери, за которой слышался сильный шум проходившей мимо нас к своей аудитории какой-то группы, и плотно ее прикрыл, дав нам жестом понять: так-то теперь будет лучше, а то совсем слушать мешают… В мою сторону дружно повернулись головы шокированных сокурсников: ну и дела – сам не поленился встать и прикрыть дверь, чтоб нам не мешали слушать – заинтересовался, значит… Молодец, Саня! Знай, Владимир Яковлевич, наших!
В таких примерно высказываниях обсуждалось произошедшее после семинара.
Понятно, что я не замедлил теперь как можно чаще обращаться к Владимиру Яковлевичу с разными вопросами, на которые он всегда охотно отвечал. В своем стремлении представить в его глазах себя как студента, весьма погруженного в проблематику фольклористики, я иногда даже перебарщивал. Помнится, как-то задал ему вопрос, не существует ли такой науки, как фольклорная психология (или хотя бы историческая), занимающаяся определением разных национальных типов в сменяющихся временных срезах? (Думаю, что и мне самому не совсем тогда было понятно, что это такое.) Однако Владимир Яковлевич на минуту серьезно задумался и ответил отрицательно: «Нет, не существует…» А затем, помедлив, добавил: «Эту функцию прекрасно выполняет литература и тот же фольклор».
Начиная с того семинара он стал заметно меня выделять. В это время вышла составленная и подготовленная им, с его же вступительной статьей книга «Народные лирические песни» (Л., 1961, в большой серии Библиотеки поэта). И не кого-нибудь, а меня попросил он написать о ней рецензию в нашу филфаковскую стенную газету. То-то уж я старался! И она, эта моя первая в жизни рецензия, свою стену увидела.
А затем произошел у меня отход от столь страстного увлечения фольклористикой. Я открыл для себя потрясший меня мир поэзии начала двадцатого (Серебряного – по нынешнему достойному его высокому определению) века. Она-то и поглотила меня всего. Забросив лекции и все, что забрасыванию поддавалось, я целыми днями стал пропадать в Русском зале Публичной библиотеки за переписыванием сборников стихов Цветаевой, Гумилева, Хлебникова, Ахматовой, Клюева, Мандельштама и др. Переписывал не просто в какие-то там затрепанные тетрадки, а дублируя именно сборники, для чего приходил туда с чернильницей, с тушью, ручкой с пером и специально заготовленными брошюрками бумаги миниатюрного формата, которые по заполнении их стихами отдавал в переплетную мастерскую. Вот и готово довольно изящное, в духе «эстетного» Серебряного века изданьице – благо