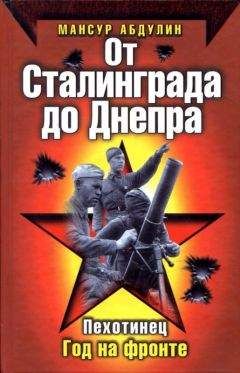Я свой автомат демонстративно перекинул через плечо: если смажут, думаю, все равно не успею воспользоваться...
И вдруг они полезли из-под развалин, из всех нор поперли одновременно. Тоже медленно шагают, бросают на снег автоматы и поднимают руки. К моему непредставительному виду они равнодушны. Вот пистолет упал к ногам. Только по этому и можно понять, что вон то завернутое в одеяло чучело - офицер. А пистолетом, сволочь, кинул в меня так, что мало не промахнулся. Злись на здоровье, сдавайся только!
Я вдруг с облегчением понял, что подвоха не будет: немцы народ дисциплинированный. И это самая что ни на есть настоящая капитуляция.
Хлопцы, увидев фашистов в таком виде, приосанились и тоже высыпали на улицу: гитлеровцы рядом с нами просто огородные пугала. Какое только тряпье на них не наверчено! Бросают оружие в кучи и молча становятся по восемь-десять человек в колонны.
* * *
Ну днем мы все же сходили посмотреть на тот самый универмаг, где был штаб Паулюса. Весь город в белых тряпках. Только расслабились - к вечеру известие: отдельные группы гитлеровцев продолжают сопротивляться. И еще неделю мы прочесывали улицы, выкуривая недобитых фанатиков из системы канализации.
Из разрушенного, но непокоренного города медленно потянулись мимо нас колонны пленных гитлеровцев. Больные и ослабленные плетутся в хвосте колонн, закутанные одеялами с головы до ног. Спрашиваю наших конвоиров:
– Куда их?
– В Гумрак, - нехотя отвечают конвоиры.
Вспоминаю чудовищные штабеля из скелетов наших военнопленных в гумракском лагере... Эти, я знаю, останутся живы. Для них война кончилась. Пусть смотрят на те штабеля. Пусть размышляют, что есть фашизм...
Всех нас, кто остался в живых, наградили медалями "За оборону Сталинграда". Но живых осталось мало. Из лично мне знакомых людей остались живыми после Сталинградской битвы:
Козлов Виктор Васильевич, минометчик, проживает в Днепропетровске;
Амбарцумьянц Георгий Леонтьевич, разведчик, из Ташкента;
Амбарцумьянц Антонина Антоновна, санитар-медсестра, Ташкент;
Картошенко Николай Михайлович, командир стрелковой роты, Курган;
Егоров Владимир Георгиевич, комиссар полка 1036, из Полтавы;
Егорова Анна Александровна, секретарь политотдела дивизии, Полтава;
Макаров Николай Васильевич, минометчик, однокашник мой по Ташкентскому пехотному училищу, живет в Москве;
Емельянов Афанасий Иванович, артиллерист, из Новоалтайска;
Луценко Мария Семеновна, медсестра, живет в Новотроицке;
Терехин Николай Андреевич, стрелок, Новотроицк;
Николаев Петр Сергеевич, стрелок, живет в Новотроицке;
Евстигнеев Иван Александрович, минометчик, живет в селе Пестровка Башкирской АССР;
Мануйлов Геннадий Михайлович, орудийный мастер, из Челябинска;
Садчиков Захар Ефимович, ездовой, проживает в селе Благодатное Оренбургской области;
Шулика Михаил Иванович, артиллерист, из города Иноземцева Ставропольского края;
Тукхру Иван Иванович, замкомполка 1034, ныне генерал-майор, живет в Таллине;
Дмитриев Алексей Петрович, командир одного из полков, к концу битвы командир 1034 полка 293-й стрелковой дивизии, ныне Герой Советского Союза, из Омска;
Билаонов Павел Семенович, начальник штаба одного из полков 293-й стрелковой дивизии, ныне генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, живет в Киеве;
Лосик Олег Александрович, воевавший в составе 4-го мехкорпуса в полосе боевых действий 293-й стрелковой дивизии, ныне маршал бронетанковых войск, Москва.
Может, еще кто из лично мне знакомых отзовется?.. Это была бы огромная радость.
К концу битвы курсантов-минометчиков из Ташкентского пехотного осталось совсем мало. Было решено рассредоточить нас по ротам среди нового пополнения. Фуата перевели в другой батальон, и нам пришлось расстаться. Больше мы не встретились.
В станице Карповка, где расквартировалась наша, теперь уже 66-я гвардейская дивизия, мы наконец объявили жаркий и сладостный бои вшам!
Вмиг построили по собственным "проектам" жарилки и бани. Каждый день моемся, паримся, жаримся. В жарилке накаляется наше обмундирование так, что дымится, а вши не погибают... Измучились мы с ними. Что делать? И вот однажды наша жарилка сгорела. Мы - в одних ремнях остались.
Привезли новое обмундирование - с иголочки! Вшей не стало с того дня совсем! "Капитулировали!" - смеялись мы.
Ну и одна за другой стали гореть жарилки во всех ротах... Никакой особый отдел не взялся расследовать причины этих пожаров...
И наконец-то я выспался! Хоть не на кровати, но в помещении, а не в окопе.
Ощущение охватило такое, что войне конец... Ох, как же еще далеко было до конца! Скольким людям еще придется погибнуть от той весны сорок третьего до весны сорок пятого года... В составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса наша 66-я гвардейская стрелковая дивизия в железнодорожных эшелонах следовала через Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую области в сторону... Курской.
Запомнил в Липецкой области одну милую железнодорожную станцию, где наш эшелон простоял несколько дней. Эта станция и поселок при ней называются Добринка. Название вызывало у нас особое чувство интереса к жителям. Особенно мы подружились с детьми. Детей мы кормили из своей кухни.
Несмотря на трудное материальное положение, в поселке царило праздничное настроение, и все были уверены в скором окончании войны. Старики и женщины старались угощать нас чем могли, и, главное, мы чувствовали их любовь к нам, нашей армии. Была весна, когда особенно не хватало еды, и мы тоже делились своим небогатым пайком с добринскими жителями. По кусочку хлеба или сухарика выкраивали для них. Дети хлеб не ели, а сосали, как лакомство, чтоб продлить удовольствие...
Прости мне, читатель, если описание нескольких дней в Добринке создало впечатление излишней умиленности. Прими во внимание, что как грязное, завшивленное тело потребовало после Сталинградской битвы горячей воды и чистой одежды, так мозг в те дни, чтобы сохранить равновесие, искал резко противоположных впечатлений, а именно: впечатлений добра и человечности. Шел необходимый процесс восстановления души. Ибо, по моему глубокому убеждению, воевать со злом должны только добрые люди.
Милые жители поселка Добринка! Спасибо вам за те весенние дни 1943 года, когда мы после ужасов Сталинградской битвы стояли эшелонами у вас!...
Кажется, на этой станции меня наконец догнала весточка из дома. Отец так и не прочел мое письмо от 6 ноября 1942 года, где я ему сообщал о своем первом уничтоженном гитлеровце. 12 ноября, в возрасте сорока пяти лет, мой отец погиб в шахте...
Больше всех людей я любил своего отца. У меня все от отца моего, которым я горжусь. В 1934 году у него была возможность безнаказанно присвоить четыре килограмма золота, но он не стал этого делать. Даже ревизор сказал моему отцу "дурак" за то, что отец оприходовал в казну эти излишки. Отец был строгий, но справедливый, он был партийный.
Хоть и смутно, но помню я, что в те годы все "партейные" на шахтах приняли решение установить потолок своему заработку - сорок рублей за месяц. Моя мать немного на отца сердилась за то, что "беспартейные" шахтеры получали в два раза больше денег и жили лучше нас. Но мой отец всегда умел уговорить мамку "по-доброму".
Любил ли меня отец? Наверное, любил. Но свою любовь к нам, детям, он старался скрывать. И правильно он делал!
"Если услышу или узнаю, что ты где-нибудь сматерился, шкуру спущу!"... И вот однажды меня отец устроил коногоном на барабанном приводе у ствола шахты. Барабан вращался при помощи "водила" - лошади. Сиди на водилине или верхом на коне и погоняй...
Стволовые мужики дают команды "вира", "майна", "отдай канат!", "стоп!". И я, быстро все поняв, начал зарабатывать свой хлеб.
Мне десять лет. Конь злой, уросливый, пауты одолевают - день знойный... Кони - хитрый народ: "Ага, мальчишка коногонит - можно и поуростить!" А я какой я коногон, если буду мальчишеским голосом "нукать"? Я тоже не глупее коня и начал показывать свой "характер". Стараюсь басом, по-мужичьи - и с самой ядреной матерщиной "в три господа мать"... Помогло. Конь заторопился выполнять команды.
Я был доволен, что у меня получается не хуже, чем у любого мужика. Мне и стыдно материться, но я вынужден это делать, потому что кони так приучены. Я видел, как бабы, садясь в телегу, сначала отматерят и коня, и свою судьбу...
Вот уже полдня я работаю коногоном. Все нормально. Матерюсь до хрипоты так надо!.. И вдруг чувствую: спину мне кто-то сверлит. Оглянулся. Стоит мой отец и в усмешке шевелит своими черными красивыми усами. Я чуть с перепугу не кинулся бежать. Сник сразу же и боюсь поднять глаза.
Огец подошел, подал мне пол-литра молока с хлебом и как ни в чем не бывало предложил мне отойти в холодок, присесть и пообедать. Пока я обедал, отец коногонил.