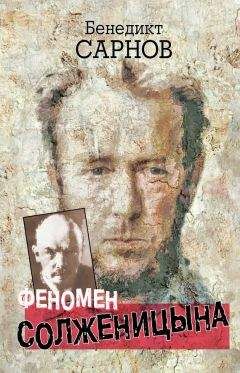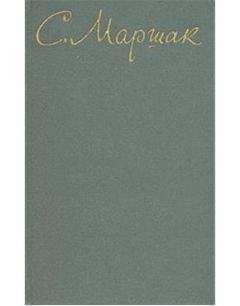Отнюдь не стремясь найти удачный ответ, скорее от чистой растерянности, я сказал:
– Своего товарища я сравнил с Пушкиным.
Понятное дело, скандальность происшествия я этой репликой не уменьшил.
С грехом пополам выговорив всё – или почти всё, – что было написано в лежавшей у меня в кармане бумажке, я протолкался через битком набитый зал и боковой дверью вышел на лестницу, куда в таких случаях направлялись обычно только заядлые курильщики. Там стоял Виктор Николаевич Ильин – бывший генерал-лейтенант КГБ (если только генералы этого ведомства бывают бывшими), а ныне – оргсекретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР.
Укоризненно покивав мне, он сказал:
– Не ожидал... Не ожидал от вас...
Не помню дословно, что я ответил, но, видимо, что-то очень похожее на традиционный плаксивый ответ нерадивого пятиклассника, вызванного на ковёр директором школы: «А что я сделал?..»
– Ну как же, – пояснил Виктор Николаевич. – Вы ведь знаете, как к нам сейчас относятся... На Московское отделение каких только собак не вешают... Думаете, так просто было добиться согласия на это обсуждение?.. И всё так хорошо шло, спокойно, корректно... И вдруг – бац! Вылезаете вы и сравниваете своего товарища, коллегу, с агентом Третьего отделения...
По-настоящему даже не оценив всю пикантность этой реплики (важный чин этого самого Третьего отделения сравнение с агентом его ведомства воспринимает как оскорбление), скорее всё от той же растерянности я возразил:
– Позвольте, Виктор Николаевич! Это ведь не я, это Берёзко сказал про Третье отделение. А я имел в виду совсем другое. Я просто хотел сказать: кто она такая, Кедрина, чтобы поучать Солженицына? Она в сравнении с ним – как Булгарин в сравнении с Пушкиным. Ничтожная литературная вошь имеет наглость, как ни в чем не бывало, с полным сознанием своего права учить Солженицына, как надо ему писать свои книги.
– Вы в самом деле только это имели в виду? – быстро спросил Ильин.
– Ну да, конечно! – с чистым сердцем подтвердил я.
– Так, может, вы объясните это собранию?
– Ну, нет, – сказал я. – Раз уж вы все поняли меня так, пусть оно так и остается.
Виктор Николаевич был человек неглупый, настаивать он не стал.
Когда мы с ним вернулись в зал, спектакль приближался к финалу. Берёзко уже даже произносил какие-то обтекаемые заключительные слова. Но тут из зала послышались выкрики:
– Резолюция!..
– Надо принять решение!..
– Какое ещё решение?
– А вот такое: собрание московских писателей считает, что повесть Солженицына непременно должна быть опубликована...
– Но у нас нет таких полномочий! – задёргался до смерти перепугавшийся Берёзко. – Это не наша прерогатива...
– Значит, мы должны обратиться с таким требованием...
– К кому обратиться?.. Куда мы можем обратиться?.. – беспомощно вопрошал несчастный Берёзко.
И тут на подиум (никакого подиума там, понятное дело, не было, но именно это слово почему-то кажется мне тут наиболее подходящим) вышла Белла Ахмадулина. Её юное лицо, возбужденное одушевлявшим её прекрасным порывом и немного алкоголем, было прелестно. Божественным своим голосом она произнесла:
– Если нам не к кому обратиться, давайте обратимся... – по-балетному пластичным, но в то же время каким-то очень естественным движением воздев свои тонкие изящные руки к потолку, она пропела: – к Бо-огу!
Случайно я взглянул в этот момент на Солженицына. Он смотрел на Беллу с каким-то отстраненным любопытством – острым, цепким, изучающим взглядом. Как на какое-нибудь редкое, экзотическое животное.
Впрочем, я думаю, он на всех нас тогда смотрел так же.
* * *
Неделю спустя я встретил на улице Слуцкого. Остановились, поговорили.
– Вчера, – сказал он, – я был у Беляева.
Альберт Беляев был тогда замзавотделом культуры ЦК КПСС.
– И в разговоре, – продолжал Борис, – между прочим, было упомянуто ваше имя.
Я выразил насмешливое изумление по поводу того, что мое скромное имя известно в столь высоких сферах.
Борис в ответ тоже усмехнулся и не без удовольствия процитировал своего высокопоставленного собеседника.
– Обсуждение «Ракового корпуса», – будто бы сказал тот, – прошло хорошо. Если не считать наглого выступления Сарнова.
Выслушав это сообщение, я не удивился. Но тогда у меня не возникло и тени сомнения насчет того, чем был вызван этот сердитый начальственный отклик: ну, конечно же, моим «бестактным» выпадом против Кедриной!
Но сейчас, прочитав сокращенную станограмму обсуждения «Ракового корпуса» (она, как уже было сказано, напечатана в шестом томе собрания сочинений Солженицына, изданного «Посевом»), понял, что дело было не только в Кедриной. И может быть, даже совсем не в Кедриной. Наверняка мое выступление показалось цековскому аппаратчику наглым не только по форме. Наглость заключалась в самом его содержании – и именно в той части моей речи, которая была написана заранее.
Помню, мне тогда очень понравилась шутка Гриши Бакланова.
– Меня, – сказал он, – приучила армия к тому, что когда начальство советуется, это вовсе не означает, что оно действительно хочет выслушать совет. Мне кажется, что некоторые ораторы сегодня злоупотребили своим правом давать советы рядовому Солженицыну.
Как видно, шутка эта понравилась не только мне: в стенограмме после этих слов следует ремарка: «смех».
Но сейчас, внимательно прочитав подряд все выступления, я вдруг увидел, что в этой Гришиной шутке отразилось нечто большее, чем я услышал в ней тогда.
Обсуждение это – и начальством, и большинством выступавших (конечно, если судить по их выступлениям) – воспринималось как чисто творческое мероприятие: коллеги, товарищи по перу обсуждают новое произведение своего собрата, делятся впечатлениями, указывают ему на то, что у него получилось лучше, что хуже. В заключение мероприятия он благодарит товарищей за помощь, какие-то замечания принимает, с какими-то не соглашается, но обещает подумать и их тоже учесть в дальнейшей работе над рукописью.
По форме оно так всё и было. И выступления, и заключительное слово, в котором А. И. дипломатично заметил, что для него – в особенности сейчас, когда он пишет книгу за книгой, а их не печатают, – «такое обсуждение единственная возможность услышать профессиональное мнение, услышать критику».
Но на самом деле цель Александра Исаевича, когда он настаивал на этом обсуждении, состояла, конечно же, совсем не в том, чтобы услышать о своей рукописи суждения профессионалов. Главная цель этого обсуждения заключалась для него в том, чтобы легализовать крамольную повесть, ходившую в «самиздате», ну и, конечно, использовать давление общественности, чтобы – чем чёрт не шутит? – всё-таки её напечатать.