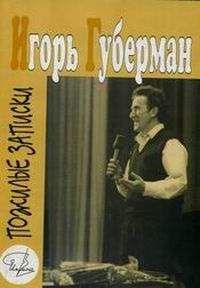Хорошо, что мы не взяли Ясика в Москву: пошла у нас тревожная, непонятная и смутная жизнь. Она довольно долго длилась. А в разгар российской оттепели, поздней осенью восемьдесят седьмого, к нам в холодное октябрьское утро залетел вдруг через форточку на кухне ослепительно зеленый тропический попугай. Он от кого-то улетел и выбрал нас. И семья наша немедленно раскололась вдоль трещин наших несовпадающих (как выяснилось сразу) представлений о порядочности и честности. Я на радостях назвал попугая Кирилл Исаковичем и стал обучать легкому мату, даже не помышляя о возвращении бегледа. Безупречно нравственная Тата принялась вкрик настаивать на поисках владельца. Дочь молчала, но душа ее зримо разрывалась надвое. Сын так же молча отправился к какому-то соседу за клеткой. Сосед наш, находчивый и многоопытный плут, нашел решение предельно мудрое:
– Мать тебя заставляет повесить объявление о находке, – вкрадчиво и рассудительно сказал он сыну. – И вернуть, конечно, птичку надо. Только вдруг на объявление придет нечестный человек? И скажет, что это его птица? Как ты узнаешь? Нет, сперва пусть эти ротозеи повесят объявление о пропаже. Пусть они сперва объявят, что потеряли. Если ты, конечно, увидишь это объявление, тогда пиши пропало. Тут уж ничего не поделаешь.
Эту мудрую речь наш Милька нам принес уже с клеткой. Не наткнулись мы потом ни на какое объявление, и нас никто не осудил. Зато все заявили в один голос, что тропическая птица, осенью сама нашедшая дорогу в нашу форточку, – есть несомненная примета дальней дороги. Даже не примета вовсе, а знамение: настало время собирать чемоданы.
Так как в нашей жизни дальняя дорога больше рифмовалась с казенным домом, нежели с отъездами (уже они возобновились), то мы весьма насторожились, когда месяц спустя нас вызвали в ОВИР. Именно там состоялось десять лет назад мое свидание с чекистами, после которого я сел в тюрьму. Мы ехали туда не в самом радужном настроении.
Но дивной красоты и строгости офицерша произнесла слова, замечательные для времени законности и гражданских прав:
– Министерство внутренних дел, – торжественно сказала она, – приняло решение о вашем выезде.
Кто-нибудь еще не верит в приметы?
А в Израиле возобновились разговоры о собаке. Тата прерывала их категорическим отказом, напоминая всякий раз, как тяжело терять, когда полюбишь. А то, что мы полюбим, было ясно и слепому дураку. И сын мой (до сих пор благословляю его за отвагу) прибег в этой борьбе с родителями к маневру хитроумному и безупречно точному.
Как-то из города раздался его телефонный звонок, и он сказал мне голосом, дрожащим от волнения:
– Папа, тут сейчас из лавки, где торгуют собаками, выбросили щенка, и он погибнет. Он крохотный и скулит. Что делать?
– Как это – что делать? – суровым отцовским тоном ответил я. – Немедленно бери его и привози домой. Мы здесь его покормим и кому-нибудь отдадим.
Сын через час явился домой с невообразимо тощим, грязным и покрытым паршой кривоногим заморышем.
Еще на нем гнездились все виды мелкой насекомой нечисти Ближнего Востока.
– Эх ты, – сказал я ему укоризненно, – в свои шестнадцать лет ты даже родителей не научился грамотно обманывать. Чтобы такое создание выбросили из лавки, надо сперва, чтобы его в такую лавку взяли, а кто такое чудище согласился бы продавать?
Однако же к приходу матери версия была разработана: бедного щенка закидывали камнями злые жестокосердые мальчишки. (Тут были явственно видны традиции былой советской пропаганды: чем идиотичнее и круче, тем убедительнее и правдоподобней.)
Версия прошла не сразу: жена и мать поплакала немного, а сказала много больше – из того, что она думает о нас обоих. Но щенок уже обнюхивал квартиру, щедро писал на пол по углам, вилял хвостом и ластился – ему быстрее всех стало понятно, что судьба его вполне определилась.
А через год всего, как это и случается в подобных историях, он вымахал в огромного черного красавца – даже со следами породы. Его гулящая бабушка была, очевидно, бельгийской овчаркой. Так нам объяснили сведущие люди, и я честно передаю их мнение, хотя, судя по размаху ушей, его бабушка скорей всего была летучей мышью.
Наш любимец по кличке Шах вырос настоящей сторожевой еврейской собакой: он обожает всех знакомых и незнакомых людей, а боится кошек, птиц и темноты. Неописуемой доброты и дивного благородства получилось животное. А еще интересно, что своим хозяином он признает только сына, а всех нас хотя и любит, но считает некими сопровождающими лицами (лично меня – обслуживающим персоналом). Поскольку он – собака местная, то, очевидно, полагает, что хозяин в доме тот, кто лучше знает иврит.
***
В нашей бездонной памяти и в разуме нашем всё существующее в мире изобилие предметов и явлений связано внутренними рифмами. Психологи давно уже назвали их красивым словом «ассоциации», разбили на виды (ассоциации по смыслу, по форме, по содержанию, по цвету, запаху, звуку) и успокоились. А между тем это, конечно же, внутренние смысловые рифмы нашего бытия; Творец наделил нас вполне поэтическим сознанием, и великое множество самых разных понятий отзывается в нашей памяти на любое слово. Так, собака рифмуется с охотой – самый простой пример. А полезные советы – со скукой назидательных поучений (если они обращены к нам, разумеется, ибо если их произносим мы, то они рифмуются с пользой и желанием добра). Двадцатый век обогатил наш подсознательный словарь рифмами неожиданными и черными: Россия и лагеря, евреи и газ, физика и белокровие, технический прогресс и гибель живой природы.
Зря я разболтался и ушел куда-то в темы, кои трогать вовсе не хотел. Я собирался плавно перейти к воспоминанию, тесно связанному с собаками, светлому и давнему воспоминанию, в котором немудрящая имеется мораль. Ее я сразу назову: к советам опытных и сведущих людей прислушиваться стоит.
Один раз в жизни я лоехал на охоту. Заманил меня приятель, жарко нажурчав, что это удовольствие невообразимое, а мне лично как будущему литератору необходимо пережить охотничий азарт. Я вяло уклонялся, и приятель перешел на крик. Аксаков, Хемингуэй, Тургенев, Пришвин – выкрикивал он, а заметив, что я клюнул на Хемингуэя, повторил его имя трижды, как шаман – магическое заклинание. Я сдался и согласился. В немыслимую рань поехали мы с ним в какую-то неведомую глушь в Рязанской области, где у приятеля был знакомый егерь, и добрались туда на поезде, автобусах и попутных машинах только к позднему закату. Но егерь действительно оказался реальным (и весьма приветливым) мужиком, и ближе к вечеру мы крепко напились. И я лег спать в тесном чулане, за час убив около сотни комаров, которые пикировали на меня с предсмертным писком. Размышлял я о завтрашнем приключении, слегка тревожась за свою наблюдательность, ибо хотел увидеть и запомнить (а также пережить и прочувствовать) как можно больше. Я был еще возмутительно молод, и лишь это извиняет мою тогдашнюю иллюзию, что литература – это обилие житейских деталей.