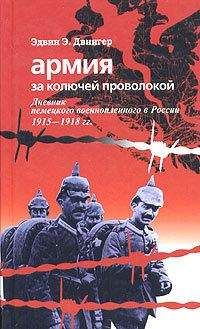Ознакомительная версия.
Я беру свои костыли, чтобы уйти, пока его не уберут, – как если бы брюзгливой, лучше всех всё знающей фигуры и не было вовсе. Впрочем, подобные прогулки я совершаю каждое утро, как проснусь. Нет уж, я лучше, несмотря на боль, доковыляю до уборной, чем продолжу пользоваться переносным стульчаком, который почти совсем не моют, при этом в большинстве своем он настолько полон, что им невозможно уже и пользоваться.
Ясное дело, и это у меня позади. О, немаловажно покончить с этим! Первоначально меня приводила в отчаяние необходимость в присутствии всех и при поддержке двух человек сидеть на этом стульчаке; потом я привык к этому, как привыкают ко всему. Но новый ад заступил его место – этот поход сам по себе! Он тяжел и мучителен, тут как бы никуда не денешься. Однако это поход сквозь шеренгу мертвецов, вот ведь что…
Утренняя большая уборка всегда начинается в 8 часов. Только в 8 часов осматривают койки, уносят новых мертвецов. Если я пойду – должен идти, – они все еще будут лежать там, где умерли. И каждое утро я вынужден проходить мимо десяти – двенадцати мертвецов, чтобы через весь зал добраться до двери. Нередко они протягивают сведенные предсмертной судорогой руки или ноги так далеко в проход, что едва можно протиснуться между ними. Некоторые голыми валяются на полу, некоторые наполовину свешиваются с коек, у многих окровавленные рты застыли в предсмертном крике. Но почти у всех открыты глаза, они странно смотрят вслед испытующим остекленевшим взглядом. Потому что санитары с момента, как замечали, что кто-то умирает, уже больше не заботились о нем, оставляли умирать – среди тысяч людей и все же как дикого зверя в поле…
После полудня темноволосая сестра сообщает нам, будто получен приказ об отправке. Ранним утром… Она говорит об этом коротко и деловито, однако мне кажется, что при этом у нее дрожат чудесные губы.
– Вам не нужно чего-нибудь? – спрашивает она.
Некоторое время я колеблюсь. Мне кое-что очень нужно, но я знаю, что это запрещено, что она не имеет права выполнить эту просьбу.
– Мне хотелось бы ножик, – нерешительно говорю я, – маленький перочинный ножик. Нам нечем даже хлеб нарезать…
– Военнопленным это запрещено! – коротко говорит она и уходит.
Заблуждался ли я? Ну и пусть… В следующее мгновение подходит Под.
– Вот и решено! – говорит он мрачно. – Еще повезло, что мы вместе! Я хотел бы выучить русский. Во время пути – ведь придется общаться с людьми, верно? Согласен меня учить?
– Конечно, Под. Я возьму у офицеров пару тетрадок, может, даже достану учебник русского. Тогда мы вскоре сможем приступить!
– Учебник? – удивленно спрашивает Под. – На кой мне учебник? А бумаги у меня достаточно… – И он выуживает грязный обрывок, слюнит карандаш. – Как будет Hunger?
– Голод, – говорю я.
– Голат, – повторяет он, берет карандаш, пишет: «Hunger – голат».
– Fleisch? – спрашивает он.
– Мясо.
– Мяса, – повторяет Под, записывает: «Fleisch – мяса».
– Brot? – спрашивает он дальше.
– Хлеб.
– «Клеп». – Записывает. – Butter? – спрашивает затем.
– Масло.
– «Масла…» Eier?
– Яйца.
– «Яйца…» Kein Geld?
– Нет денег…
– «Ньет денек – kein Geld», – пишет он крупными буквами на своем клочке, осторожно сворачивает его по старым грязным сгибам и встает.
– Спасибо, – говорит он. – Этого мне хватит. Этим я обойдусь. Больше ничего из этого проклятого языка я не хочу и знать…
Едва кончается утренняя уборка умерших за ночь, как приходят санитары с большими мешками. Они смотрят на номера наших температурных табличек и со словами «Здоров» бросают каждому из нас мешок перед койкой. Там вся наша одежда, от сапог до фуражек, все, что было на нас в момент поступления сюда.
– Давайте! Подъем! Одевайтесь!
Несколько подавленные, мы выбираемся изпод одеял, но, как только разбираем наши мешки и раскладываем свою старую форму на постелях, наше настроение быстро поднимается. Словно кавалерийские сапоги и военные мундиры снова вдохнули в нас частичку того жесткого и мужского духа, который был во всех нас, когда мы еще здоровыми и полными надежд натягивали их на себя, в котором во времена костылей и волочащихся больничных халатов мы часто нуждались и который даже частично утратили. Возможно, причиной тому стало и чувство, что боль и лазаретные койки навсегда позади, что мы снова становимся солдатами, – и даже если впереди нас не ожидает ничего хорошего, мы все же снова окажемся вне стен, среди других людей страждущих и умирающих. Да, теперь мы будем слышать иные слова, нежели оклики сестер и санитаров, видеть другие вещи, нежели раны, гной и смерти.
Наше белье хотя и выстирано, но неумело; на рейтузах и мундирах зияют дыры от пуль.
– Оставьте, как есть, – говорит малыш Бланк, «красна девица». – Я хорошо шью, я вам все заштопаю!
Натянуть кавалерийские сапоги мне помогает Под. Дело это непростое, поскольку моя правая нога еще не выдерживает противодействия и не может оказывать его. Наконец мы все, готовые, рассаживаемся по койкам, удивленно разглядываем друг друга. Шумные шуточки Брюнна прекратились, Под вдруг снова обращается ко мне «фенрих» и на «вы», Шнарренберг сидит слегка отчужденно. Все это выглядит, словно бы галуны и медные пуговицы вмиг вернули прежнюю власть.
Я трижды окликаю Пода с одной лишь целью, чтобы подчеркнуто назвать его «Под» и обратиться на «ты», тем самым как бы говоря ему…
– Под, – в конце концов спрашиваю я его, – я что, стал другим, чем был пару часов назад?
– Да, фенрих.
– Почему?
– В этих чертовых больничных халатах мы все были одинаковы, а теперь…
– Но я не хочу никаких изменений во взаимоотношениях между нами, драгун Подбельски! – сердито говорю я.
– Слушаюсь, господин фенрих! – смеясь, говорит он. И становится прежним.
Нам нечего нести, кроме того, что надето на нас. У меня нет даже шапки – поскольку я носил офицерский шлем, его в качестве трофея забрал у меня казачий офицер. Впрочем, у многих за время хранения из мешков украли тот или иной предмет униформы. Двое становятся в строй в одних кальсонах, пара человек – в нательных рубашках, никто и не подумал дать им замену. Во дворе нас ожидают пара часовых при ружьях с примкнутыми штыками.
– Эй, парни, прихватите с собой пару пушек! – кричит Брюнн.
У ворот стоит лейтенант Брем. Он жмет мне обе руки, наконец говорит:
– Я хотел бы дать вам кое-что на дорогу!
Это десятирублевый банкнот, целое состояние для меня, для всех нас – еще вопрос, найдется ли во всем эшелоне хотя бы копейка.
– Возвратите на родине! – говорит он, улыбаясь. Я не в состоянии отвечать, лишь крепче сжимаю его руки.
Ознакомительная версия.