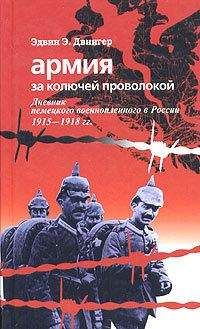Ознакомительная версия.
– Как это?
– Ха-ха, потому что штаны на ней, а не на ее супруге! Она должна быть порядочной скотиной… Требует спороть все нашивки и знаки отличия, меняет немецкие деньги по 60 пфеннигов за марку, кроме того, присваивает половину суммы, отпускаемой на наше содержание!
На Угрешской отсортировывали людей всех мыслимых национальностей: всех славян, а также и румын, итальянцев, поляков из австрийцев, затем эльзасцев и шлезвиг-голштинцев из германской армии. «Почему, зачем?» – задаемся мы вопросом. Этих людей отправляют в более хорошие лагеря, говорят нам.
– Вот если бы, – полагает Брюнн, – я был родом с датского побережья!
Шиканье заставляет его замолчать.
– Ты что, не понимаешь, что это было бы предательством? – кричит ему кто-то. – Позднее тебе так или иначе пришлось бы голосовать за Данию, балда! Или думаешь, у тебя был бы выбор?
– Я только так сказал… – задумчиво бормочет Брюнн.
Между тем я оглядываюсь в бараке. Угрешская для массы тех, кто вынужден нередко месяцами ожидать здесь отправки в Сибирь или Туркестан, слишком мала. Основную территорию занимает темный сарай со сквозными деревянными нарами, нашим ложем. В центре возвышается открытый подиум, по какой-то непонятной причине названный солдатами «Ку-ку-реку». На нем расположена пара рядов железных солдатских коек с досками, также без соломенных тюфяков или одеял. Это спальные места для пленных офицеров.
Я бреду вокруг этого подиума – может быть, обнаружу однополчанина? Но счастье отворачивается от меня – в основном это австрийцы и венгры, лишь двое германских офицеров особняком сидят в углу – ни знакомой формы, ни знакомого лица. Когда я возвращаюсь на свое место, приходит Бланк с чаем – мутной, желтоватой жидкостью, единственное достоинство которой в том, что она горячая, а мы не можем избавиться от ночного холода, пробравшего нас до костей, не приняв чего-либо горячего внутрь.
В бараке густой, влажный, едкий воздух – вонь, наподобие той, которой иногда пахнет на тебя из набитых битком цыганских повозок. А как же иначе? Некоторые уже неделями валяются на этих нарах, не моясь и почти без одежды ночами, многие с открытыми ранами – все обовшивевшие.
У некоторых на ногах вонючие повязки, нет ничего, чтобы переменить хотя бы их, некоторые бродят полураздетыми, потому что в лазарете украли часть их одежды, некоторые находились уже на последней стадии чахотки. Неизвестность преследует нас как кошмар. Что будет дальше? Если бы мы только знали…
Мы торопливо пьем чай, чтобы получить еще одну кастрюлю и умыться из нее.
– Прежде всего нашему «драгунскому разъезду» необходимо раздобыть котелок для чая! – говорит Брюнн.
– Да, его нужно приобрести в первую очередь, без чайника в России нельзя… – соглашаюсь я.
– Эх, если бы у нас была хотя бы парочка сигарет! – вздыхает Брюнн. – Все можно перетерпеть, когда в уголке рта у тебя дымится сигарета…
– Как только мы отсюда выберемся, Брюнн! – утешаю я его. – Разве мы не богаты?
– Давеча я видел одного в шикарной шапке, – говорит Под. – Она прямо на тебя, юнкер! Выторговать ее у него? Не можешь же ты всю оставшуюся жизнь ходить без шапки?
– Хорошо, Под.
Вскоре после этого он приходит с хорошо сохранившимся картузом.
– За серебряный рубль! – сияя, сообщает он. – Пускай он всего лишь с таракана, – добавляет Под, засовывает кулаки внутрь и растягивает картуз, пока он не становится мне впору.
– Что же, нас приучают к будущей лагерной жизни? – спрашивает малыш Бланк. По его голосу чувствуется, что он подавлен.
– Нет, – говорю я решительно. – Не думаю. Это было бы… Нет, это просто переходный этап. В такой огромной стране экономить на месте – разве не абсурд?
– Мы бы быстро подохли! – бормочет Под.
– Да, – соглашается Бланк, – сейчас осень, сейчас это можно выдерживать по необходимости. Однако мне говорили, что этот сарай служит сборным пунктом и зимой – при пятидесятиградусном морозе!
– Значит, на этих досках уже замерзли тысячи! – бормочет Под.
Некоторое время спустя из разведочного рейда возвращается Брюнн.
– Детки, – говорит он, – нам повезло! Первые кантуются тут уже пять недель. С нашим прибытием следующий эшелон будет укомплектован. Через трое суток его должны отправить…
– Куда? – спрашивает Шнарренберг. Это его первое слово со вчерашнего вечера.
– Госпожа комендантша говорит: в Сибирь! – отвечает Брюннингхаус.
На четвертое утро старшие бараков были вызваны к коменданту. Неужели действительно отправляют? Когда Шнарренберг возвращается, его угрюмое лицо почти сияет радостью.
– Слава богу! – говорит он, вздохнув с облегчением. – Дело сдвинулось! – Он с воскреснувшей выправкой выходит на середину нашего отделения и резким, способным разбудить и мертвого голосом кричит:
– Приготовиться к выступлению! В две шеренги становись!
Мы вставляем костыли под мышки и встаем. Под на бечевке подвязывает чайник к поясу и как конь становится на правом фланге. До полудня мы стоим во дворе, никому нет до нас дела. На Шнарренберга со всех сторон летят злые крики. Он кусает губы, и его радостное настроение быстро улетучивается. Нет, он не может ничего поделать, но кто здесь что-то может?
Наконец появляется комендантша, длинноносая бабища.
– Никто еще не хочет поменять свои деньги? – сладко вопрошает она.
– Не-е, целуем ручки, мадам! – отчетливо произносит Брюнн.
Во второй шеренге пара людей смеются.
– Черт бы вас побрал! – говорит нежная женщина и убирается прочь.
Около 3 часов отворяются большие ворота, и наш отряд, словно гусеница, вытягивается наружу. На железнодорожной насыпи стоит состав из 50–60 телячьих вагонов.
– Нужно постараться заполучить бельэтаж! – говорит Брюнн. Он имеет в виду верхние нары.
Прямо у вагонов мы останавливаемся.
– По сорок рассчитайсь! – кричит Шнарренберг. – Стой, стой, что такое?..
Все его увещевания тщетны. В одно мгновение отряд разваливается на тысячу борцов, которые без всякого сострадания штурмуют вагоны, пинками и кулаками стараясь захватить верхние нары.
Нам можно не спешить, у нас есть Под. Он первым усаживается на верхние нары в одном из вагонов и кричит низким голосом:
– Кто сюда заберется, пусть сначала пронумерует свои кости!
В русской теплушке четверо нар, двое верхних и двое нижних, справа и слева от раздвижных дверей.
– Сорок на четыре по Адаму Ризе дают десять на одни нары! – возвещает Брюнн. – Проклятие – мы что, сельди?
Он прав. Места едва хватит для шестерых, вдесятером можно лишь улечься боком и не шевелиться. Но у нас, верхних, справа и слева есть два небольших окошка, и мы сможем что-то увидеть. Нижним через щели досок наших нар в глаза сыплется мусор и паразиты, кроме того, они возятся до полуночи. Ни о каком сострадании нет и речи, в конце концов все сильные и здоровые лежат на верхних местах, больные и немощные забиваются в темные дыры, в которые никто не хочет идти.
Ознакомительная версия.