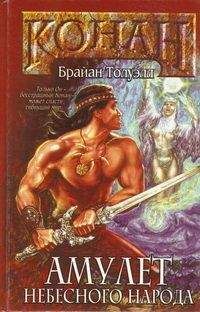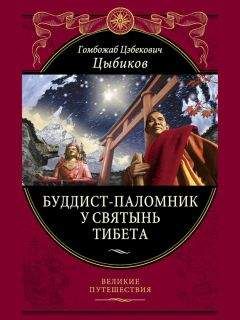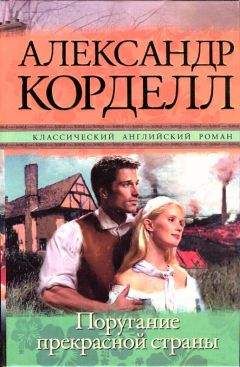И годы, и люди уходили, а шкаф вот стоял… И руки мои на его содержимое, на эту былую, давно растаявшую и незримым для человеческих глаз паром отошедшую к небу любовь, так и не поднялись.
…А еще в шкафу были старинные монетки, очень давняя серебряная брошка-бабочка с рубиновыми глазкAми, принадлежавшая прапрабабушке Анне Николаевне, которая в свою очередь досталась ей от матери в приданое; черкеска моего деда — офицера «Дикой дивизии» с серебряными газырями, старинные открытки с отклеенными марками с видами Ниццы, Лондона, Нижнего и Киева, фрагменты древних фресок и изразцов, привезенные бабушкой из своих реставрационных командировок, — того немногого, подлинного, что сохранилось от уничтоженных фашистами древнейших русских храмов.
Чего только не было в этом шкафу. Его содержимое всегда притягивало к себе мое сердце и в то же время почему-то отталкивало и томило… Какое-то у него все-таки было холодное, тоскливое дыхание. И потому душа как-то инстинктивно противилась встречам с немыми свидетельствами давно ушедшей жизни, когда-то живой и теплой, а ныне безгласной, вызывающей боль и сострадание, и безнадежное осознание непоправимости утрат.
И теперь, вслушиваясь в свои тогдашние противоречивые ощущения, порождаемые нашими с бабушкой погружениями в прошлое, заключенное в стенах несгораемого шкафа, я могу вполне осознанно отдать себе отчет в том, что тогда чувствовала и чем именно смущалась моя душа. Эти трогательные останки прошлого, эта пронзительная овеществленная память об ушедших и дорогих, была на самом деле … памятью о смерти.
В несгораемом шкафу жили бок о бок и смерть, и любовь. Однако со временем чисто логическим, примитивно-арифметическим путем — но только ли от ума? — я решила тогда для себя эту антиномию (а заодно и судьбу этих вещиц) так: любовь — сопутница жизни, — самое жизнь, и там, где любовь, там смерти нет.
Но чем же все это было, как не умственной уловкой, догадкой, еще не испытанной, не доказанной и не извещенной опытами собственной сердечной жизни?..
* * *
О том, что ощущения — вовсе не такая уж примитивно-простая и обманчивая штука, говорил еще, кажется, Тертуллиан. Не ощущения нас обманывают, — утверждал богослов, — а подводит нас наш гордый самовластный рассудок, перерабатывающий ощущения и предлагающий нам уже свои собственные чрезвычайно ограниченные, а потому и сомнительные выводы. Сердце — корень, в котором жизнь духовная зарождается гораздо раньше «света разума» во мраке и темноте, в глубинах, недоступных для рассудка. Сердце ближе к Вечности. Оно и есть сосуд Вечности. Потому, что оно законное ее дитя. А ум — вернее, рассудок, лишь порождение времени:
Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.
Впрочем, логически обосновать свою догадку о родословиях ума и сердца мне, пожалуй, было бы не под силу.
…Спустя много лет после Замоскворецкого детства пришлось семье нашей некоторое время пуститься в кочевье по Москве — выросли дети, и надо было им отделяться для самостоятельной жизни. Начался период наших перемещений по Москве. Так однажды очутились мы на Земляном валу. Это тоже было очень славное и богатое историческими воспоминаниями московское место, да еще и удивительным образом связанное с памятью прадеда — Николая Егоровича Жуковского.
…Для человека, живущего верой, в книге жизни все не случайно. Но трудно неискушенному осмыслить тихую подсказку иных миров. Разве что в сердце сложить, да поглубже, — до срока: быть может, со временем непонятное и таинственное само напомнит о себе.
Вот так случайно или не случайно стали вспоминаться прежние маршруты жизни: вот там-то ты начинал впервые в жизни трудиться, а спустя десятилетия — переехал в то место жить. В другом месте — на ходу — обмолвился: как же здесь хорошо, никогда-то мне здесь не поселиться… Но прошло некоторое время — и совершенно неожиданно ты именно тут-то и бросил свой якорь.
А Землянка, как прежде звали эту улицу, была мне дорога тем, что на ней когда-то находилась первая квартира 23-х летнего Николая Егоровича Жуковского, которую он, начав служить и получать первое свое жалование и содержать на него всю семью, сам, выбрал и нанял.
…Здесь, на Садовой, вблизи Яузы, в доме Морозова начиналась его научно-педагогическая деятельность, здесь он уже уверенно вступал на лествицу научных открытий. Жили Жуковские на Землянке тесновато, но как всегда, дружно, гостеприимно и весело: в любви, в согласии, в трудах. Любимая младшая сестра Николая Егоровича Верочка (прабабушка моя) поступила во 2-ую женскую гимназию, куда сам Николай Егорович был зачислен учителем физики. В это время Жуковские обросли близким кругом добрых друзей — научной молодежи. Устраивались вечера, танцы, из Орехова был привезен рояль Марии Егоровны (старшей сестры Николая Егоровича), кое-какая мебель. Время от времени оттуда же поставлялись и нехитрые, но столь уместные и вкусные деревенские припасы.
Николай Егорович очень любил маленькую Верочку, сам отводил ее по утрам в гимназию, сам проверял выполнение уроков. Ну, а уж Верочка-то старшего брата просто обожала: звала его «мой черненький» — за смуглый цвет кожи и темные волосы — наследие прабабушки Николая и Веры — Анны Васильевны, которую прапрадед Кондратий Белобородов по великой любви и страсти взял прямо из табора. Их дочь — юная Глафира Кондратьевна Белобородова отдана была замуж за очень родовитого и состоятельного дворянина Николая Яковлевича Стечкина. Вот у них-то и родилась дочь Анна — будущая Анна Николаевна Жуковская, матушка Николая и Веры Егоровны Жуковских…
…Устроившись на Землянке, мы полюбили эти прогулки, овеянные воспоминаниями о Николае Егоровиче, Верочке и других членах большой и дружной семьи наших близких, когда-то так же ступавших по булыжникам мостовых этих стародавних мест…
На фото: Николай Егорович Жуковский: первые годы службы.
…Обычно мы шли в сторону Китай-города, благо здесь он — через Воронцово поле — был очень близок. Слева от Воронцова поля был поворот в Николо-Воробинский переулок. Когда-то здесь стоял Божий храм в честь святителя Николая Что в Воробине, поскольку место сие именовалось Воробино. В XVII веке тут жили стрельцы, кои и возвели храм. А разрушили его потомки, летом 1932 года, выстроив впоследствии на святом месте здание, где, в конце концов, разместилось Министерство юстиции: вместо Правды Божией — право земное. Вместо христианской Византии — языческий Рим… Это место представлялось нам некой точкой, сконцентрировавшей в себе то, что о. Павел Флоренский называл «сгустком бытия». Здесь особенно вспоминалась и слышалась прежняя московская жизнь, и даже не только с близкими родными связанная, но и с близкими и родными уже не по крови, но дорогими по сердцу, по духу предками.