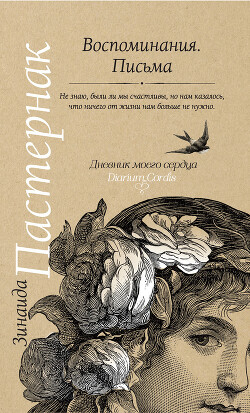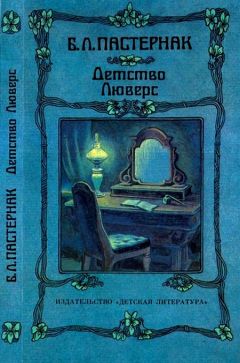и пищевода, но никаких опухолей не оказалось. Ему прописали пить перед едой соляную кислоту, через месяц все боли прекратились и больше не возобновлялись.
На следующее лето мы поехали [45] в дом отдыха «Одоево» под Тулой. С нами снова была Туся Блуменфельд, горячо привязавшаяся к детям. Дом творчества оказался хорошим, со своим хозяйством, и мы прожили там почти полгода.
В августе 1934 года состоялся Первый съезд писателей. Борис Леонидович уехал на съезд из Одоева один. Через две недели он вернулся в Одоево в хорошем настроении. На съезде его подымали на щит, он был избран в президиум. Только Сурков выступил против него [46]. Бросая фразы о его мастерстве, он принижал его, говоря, что он непонятен массам и ничего не пишет для народа. Борис Леонидович выступал на съезде.
В 1936 году зимой был пленум писателей в Минске [47]. Борис Леонидович не хотел ехать без меня и с большим трудом устроил мне поездку, так как жен писателей не брали (на пленуме оказалось только три жены: я, Сельвинская, Нина Табидзе). Везли нас по тем временам очень роскошно, и Борис Леонидович возмущался тратой огромных средств на писателей, которые, по его мнению, не заслуживали такого большого внимания от правительства.
На пленуме писатели поделились на группы. Мы оба с радостью встретили грузин: Паоло Яшвили, Тициана Табидзе с женой, Леонидзе, Чиковани, и все время были вместе, вместе осматривали город и до полуночи засиживались, читая стихи. Меня удивило тогда, что каждый выступавший, начиная говорить о литературе, съезжал на Пастернака. Большинство говорило, что Пастернак величайший поэт эпохи, и когда Борис Леонидович вышел на эстраду, весь зал поднялся и долго аплодировал, не давая ему говорить [48]. Но в зале были и его враги, например венгерский писатель Гидаш, который утверждал, что Пастернак не первый поэт эпохи, а средний. А также выступил Эйдеман [49], латышский писатель, который сказал: «Пастернак действительно большой мастер, но везет только один вагон, в то время как мог бы вести целый состав» [50].
Как всегда, речь Бориса Леонидовича была зажигательна и подчас рискованна. Едучи обратно в Москву, Борис Леонидович возмущался безумной тратой денег на банкеты и дорогую кормежку, и все для того, чтобы выяснить вопрос, какое место он занимает в литературе. Он мне сказал, что никогда не интересовался тем, какое место он занимает, настоящий художник не должен иметь ощущения своего места, и он не понимает выступления товарищей.
Вскоре после нашего возвращения в Москву в Союзе писателей состоялось собрание писателей. Я на нем была. Выступление Бориса Леонидовича снова было рискованным. Он говорил, в частности, что пора прекратить банкеты, все не так весело, как кажется, и государство не в таком состоянии, чтобы тратить на писателей столько лишних денег.
Наступал 1936 год. Писателям предложили строить дачи в Переделкине и одновременно кооперативный дом в Лаврушинском. Денег у нас было мало, так как переводы грузин давали немного, а к работе, в которой по настоянию врачей был перерыв со времен Парижа, Борис Леонидович еще не приступил. Но мы все-таки сэкономили и внесли свой пай на квартиру в Лаврушинском, а дачи ничего не стоили, так как их строило государство.
Наша дача находилась против дачи Пильняка, а с другой стороны был дом Тренева. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бору. Мне не нравился наш участок – он был сырой и темный из-за леса, и в нем нельзя было посадить даже цветов. Мы были недовольны огромными размерами дома – шесть комнат с верандами и холлами, поэтому, когда умер в 1939 году писатель Малышкин [51], нам предложили переехать в чудную маленькую дачу с превосходным участком, солнечным и открытым. В этом нам помог Н. Погодин, который был в то время во главе Литфонда.
Одновременно велось строительство дома писателей в Лаврушинском. Создали кооператив, в который надо было вносить деньги. За пятикомнатную квартиру полагалось заплатить пятнадцать-двадцать тысяч, а у нас было накоплено восемь, и хватило только на две комнаты. Сначала пятикомнатную я обменяла с Фединым [52] на трехкомнатную, но в конце концов и ее потребовалось обменять на двухкомнатную. Ко мне пришел конферансье Гаркави и сообщил, что строит холостяцкую квартиру из двух комнат, расположенную на восьмом этаже, с внутренней лестницей. Наверху должен быть кабинет с ванной, а внизу спальня с кухней. Гаркави предложил мне обменяться с ним. Боря уговаривал меня совсем отказаться от квартиры в городе и говорил, что можно обойтись одной дачей. Но я должна была заботиться о двух подрастающих мальчиках Нейгауза и хотела устроить для них этот угол, чтобы они могли учиться в Москве. Я тут же отправилась с Гаркави посмотреть эту квартиру. Я сообразила, что можно обойтись без внутренней лестницы, а общаться через лестничную клетку и сделать глухой потолок. За счет передней и внутренней лестничной площадки на каждом этаже выкраивалось еще по маленькой комнатушке. Таким образом, у меня получилось четыре небольших комнаты. Это было удобно: писатель отделялся от детского шума и от музыки Стасика. Мальчикам предназначался верхний этаж, а нам нижний.
Устроить это все было трудно, потому что требовалось разрешение главного инженера и согласие Моссовета, но у Гаркави были связи, мы с ним всюду ездили вместе и наконец с большими трудностями добились своего.
Я описываю это малозначащее событие оттого, что и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира, а в особенности в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира. Кстати, потом дом перешел в ведение жакта, все внесенные паи вернули, и оказалось, что мы зря отказались от большой квартиры.
Пока шло строительство дачи и квартиры, мы жили на Волхонке. Туда к нам часто приезжали А. Ахматова, Н.С. Тихонов и Ираклий Андроников [53] с братом Элевтером, гостили у нас, ночевали. В это время начались аресты. Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина [54]. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению ее этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приезжал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенным, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал