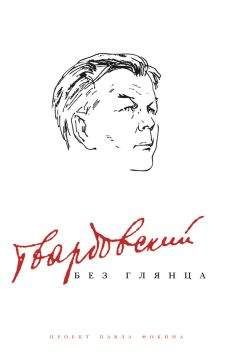Григорий Яковлевич Бакланов:
«Вставал он рано, часов в пять, в шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками – то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком. ‹…›
Обычно, прежде чем в воду войти, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор – ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит вместе и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился, что зажег я с одной спички. ‹…› Твардовский не скрывая заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться. ‹…›
Посидев у костерка, докурив, слезал он в воду, придерживаясь рукою за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражались в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как он под водой засасывает все глубже и от него по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу же плыли обратно.
Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок. Потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке». [2; 511–512]
Юрий Валентинович Трифонов:
«Каждое утро ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним – боялся быть навязчивым, – а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: „К барьеру!“ Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба круто тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там, в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы, располагались на нашем месте.
Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода во всей реке. Потому что ключи, местами даже стынью обдаст, плывешь-плывешь – и холодом по ногам.
Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватались за склоненный низко над водой будто по заказу, не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали силой. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго, медленно плавал». [2; 485–487]
Григорий Яковлевич Бакланов:
«Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома его не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки – и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и вместе вошли в дом.
В доме все это стало выгружаться: обсыпанные мукой свежие калачи, из бывшей булочной Филиппова привезенные, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан в печать номер журнала, в типографию ушел. Великий груз снялся с плеч. А что в папках привезено, это уже в другие номера.
Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, а скорее в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют в виду лучших удобств, это – твое место на земле. И хотя этот дом под Москвой, не им построенный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось». [2; 519]
Петрусь Бровка (Петр Устинович; 1905–1980), белорусский поэт, прозаик, общественный деятель:
«Как-то вечером, переговорив обо всем, мы вздумали запеть. Твардовский, не обладая особым даром пения, тем не менее пел проникновенно. Вот мы и заводили все, что нам припоминалось. Больше народное: русские, белорусские да и украинские песни. И „Вниз по Волге…“, и „Ой, расцвiла ружа…“, и „Реве та стогне…“. И как-то незаметно мы остановились на „Коробейниках“». [2; 231]
Иван Никанорович Молчанов (1903–1984), поэт:
«Кроме лыжных прогулок и хождений в чайную застряли у меня в памяти деревенские именины.
Как-то под вечер Александр Трифонович говорит мне:
– Иван Никанорыч, вот тебе деньги, сходи в ларек, купи вина бутылок пять-шесть.
– Саша, зачем тебе так много?
– Не мне. На именины сегодня идем.
– На именины? К кому? Да я и не приглашен.
– Это не важно, я приглашаю!
– Ну, коли так…
Вечером, когда уже совсем стемнело, мы рассовали бутылки по карманам, и Твардовский повел меня в ближайшую деревню. Бушевала метель, дороги не было видно. Почти по пояс в снегу, добрались мы до нужной деревушки. В деревне на улице ни души, только пурга гуляет да светятся мутные огоньки окошек. ‹…›