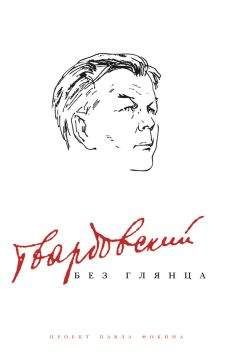В „именинной“ избе, куда мы вошли, было полно народу, застолье было в полном разгаре. Гости – главным образом колхозники, среди них несколько женщин. Три или четыре стола были поставлены в ряд, получился один длинный стол с неприхотливой деревенской снедью.
– С име-нин-ницей вас, люди! – провозгласил Твардовский, ставя на стол приношение.
Оказалось, что свой день рождения справляла наш врач-терапевт, милейшая Валентина Петровна. Работая в Доме творчества, жила она в деревне, на частной квартире. Она представила нас собравшимся.
– Выпьем за наших, за великих пролетарских писателей! – поднимая рюмку, провозгласил хозяин стола.
Твардовский, тоже держа в руке рюмку, довольно сердито сказал:
– Дорогой Семен Парфеныч, во-первых, нам до великих как до луны, а во-вторых, никакие мы не пролетарские, а советские! А плохие ли, хорошие, судить не нам…
Оказалось, что Твардовский был уже знаком с этим пожилым колхозником.
– Ну, насчет плохих-то ты уж, Лександра Трифоныч, брось! Тот, кто написал „Тёркина“, не может быть плохим!..
– Не знаю, не знаю, дядя Семен! А вот в наших смоленских деревнях на свадьбах, на именинах без песен не бывало. Есть тут песенники?
– Как не быть, есть! – раздались голоса.
– Ну, тогда споем в честь именинницы! – Твардовский чистым, хорошим для слуха, голосом затянул:
Ой, полна, полна коробушка.
Есть и ситцы и парча!..
Знакомая некрасовская песня тут же была подхвачена всем застольем:
Пожалей, эх, душа-зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Были спеты и „Москва майская“, и „Реве та стогне Днипр широкий…“, и „…При зеленой доле конь гулял на воле“, не обошлось и без камыша, который „шумел“. И в каждой песне голос Твардовского звучал ясно и отчетливо, он не только органически вливался в импровизированный самодеятельный хор, но и вел его. В одну из наступивших между песнями пауз я, подражая голосу старого Семена, созоровал:
– А сейчас, товарищи, выступит с чтением своих стихов великий пролетарский поэт Александр Твардовский!
Александр показал мне кулак и, обращаясь к гостям, сказал:
– Молчанов прекрасно знает, что читать свои стихи я не люблю… Давайте-ка я спою вам наши смоленские частушки.
– Просим, просим! – раздались голоса.
Частушек Твардовский знал множество. Были частушки лирические, любовные, были и озорные, на некоторые присутствовавшие отвечали простодушным хохотом и аплодисментами.
И в лодке вода,
И под лодкой вода.
Девки юбки поснимали…
Я невольно дернулся: неужели он ахнет концовку этой частушки? Я хорошо знал неприличное озорство последней строчки. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Сделав чуть заметную паузу, Твардовский отчеканил:
Прервав пенье частушки, Твардовский хлопнул меня по плечу.
– Иван, ты знаешь эту песню… Ну-ка начни! „Колокольчики-бубенчики…“
Я хорошо знал эту песню.
Колокольчики-бубенчики звенят,
– начал я, а Александр Трифонович подхватил:
Простодушную рассказывают быль.
Тройка мчится, комья снежные летят,
Обдает лицо серебряная пыль».
[2; 259–261]
Наталия Павловна Бианки:
«После двух рюмок Александр Трифонович обычно запевал. Голос приятный, а слух – просто отличный». [1; 29]
Алексей Иванович Кондратович:
«Вот он позванивает тихонько, но так, чтобы все слышали, по бутылке вина и, прищурившись, улыбается: „А ведь оно уже о чем-то задумалось… Не пора ли? Ну-ка, разольем!“ ‹…›
И очень любил общее, дружное согласие за столом. „Что вы там отделяетесь! – мог крикнуть кому-нибудь разговорившемуся с соседом. – Нельзя отделяться! Давайте-ка в общий разговор!“
И пожалуй, больше всего любил за столом петь. Петь вместе, сообща. Старый русский обычай, высшие и самые сладостные часы любого русского праздника и гулянья. И тогда словно руководил пением, поднимал руку и дирижировал, где потише, поплавнее, потому что „Летят утки, ле-е-тят у-у-тки“, а где призывал и металла в голосе добавить: „Пора, брат, пора, Туда, где за тучей белеет гора!“ Некоторые песни, скажем „Узник“, пел на свой лад, так, как когда-то пели в деревне, пели отец, мать – „Подлетал ко мне ворон, орел молодой“ и приговаривал: „Ну-ка повторим“. И воодушевляясь, все повторяли такой необычный вариант песни. Или вдруг задумывался, только что спев: „С кем гуляла, с кем ходила, одново тебя люблю…“ – „Ах, как это хорошо, – восхищался, – целая жизнь, и какая любовь! Мало ли с кем ходила и гуляла, а ведь люблю-то тебя одного и всегда любила!..“ И снова запевал эту песню, видимо находя в ней ту бездонную глубину смысла и чувства, которую никакими словами не выразишь, а выразить можно только самой песней и пеньем ее…» [3; 374–375]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«…Песня возникала вдруг, без предупреждения, без уговора. На дальнем конце стола, где сидел Твардовский, сквозь беспорядочный говор, смех, звяканье посуды будто сам собою зарождался напев.
Далеко-далеко
Степь за Волгу ушла…
И все смолкало. За торцом стола, на фоне серо-синих книжных переплетов – чуть откинутая вверх голова Твардовского, мягкое, округлое лицо, поредевшая прядка волос на лбу и широко открытые голубые глаза. Рука пошла в сторону плавным, приглашающим жестом…
В той степи широко
Буйна воля жила.
Хрипловатый и сильный его голос негромко, но с властной энергией выговаривал слова песни. Никакой разнеженности, сентиментальности! И чем чувствительнее был сюжет, тем по внешности суше, строже рассказывал он песню. Именно рассказывал, потому что пел он не как поют певцы, хотя бы и домашнего круга, подражающие оперному бельканто или эстрадному шепотку. Песня была для него обычно балладой – напевным рассказом о каком-то происшествии, драматической судьбе, неразделенном чувстве. Слыша музыку внутренним слухом, он строго держал ритм и тон. А внешне – почти говорил, вкладывая в песенный рассказ будто личное, пережитое. ‹…›
Твардовский любил, чтобы пели хором, но не дирижировал, а вел песню голосом, подчиняя своему темпераменту и интонации. Бывало, все еще тянут припев, а он уже торопит началом следующего куплета:
Забывал он семью,
И детей, и жену.
А имел на уме
Только волю одну.
Минутами он будто пропадал, уходил куда-то. Светлые и сильные глаза его на бледном полноватом лице смотрели вглубь себя, пока голос вел мелодию. А то – как бы обращался к слушающим, и тогда, даже если песня была всем знакома, казалось, он рассказывает ее в первый раз, как если бы никто из нас ее прежде не слышал. ‹…›