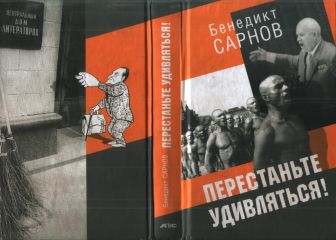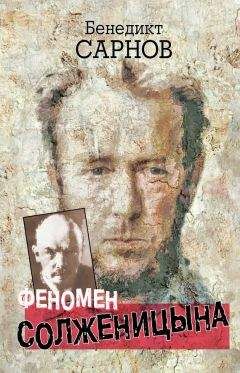Виделись мы не так уж часто, но тут как раз случилось так, что нам предстояло встретиться в гостях у общих наших знакомых.
Общими знакомыми этими были Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян. Собираясь к ним, мы уже знали, что там будут и Плучеки. И во избежание каких-нибудь неприятных сцен я — на всякий случай — предупредил жену, чтобы она в каком-нибудь там застольном разговоре не коснулась со своей женской непосредственностью той щекотливой темы. Не стоит, мол, травить оскоромившегося Валентина Николаевича, наступать ему на любимую мозоль — ему ведь, небось, и так тошно.
Предупредить-то я её предупредил. А сам…
Валентин Николаевич в том застолье был очарователен. Он был весел, шутил, смеялся, сыпал анекдотами и разными забавными комическими историями «из жизни». И почему-то так вышло, что чуть ли не в каждой из этих его историй каким-то образом фигурировали яйца. Не куриные, разумеется. И в какой-то момент я не выдержал и сказал:
— Ладно уж, Валентин Николаевич. Раз пошла у нас такая пьянка, что вы всё про яйца да про яйца, надо достойно завершить эту тему. Расскажите нам, что вам там делали с яйцами, чтобы вы подписали ту бумагу.
К чести Плучека надо сказать, что он на эту мою реплику ничуть не обиделся. И в той же веселой, непринужденной манере, в какой только что рассказывал свои комические байки, рассказал, как это было.
Он, конечно, предполагал, что его вызовут «на ковёр». И заранее заготовил какие-то планы на этот случай, чтобы уклониться. Но позвонили ему не оттуда, откуда он ждал звонка (из ЦК или там Совмина), а из Главка, где как раз решалась судьба какой-то ставившейся им в то время пьесы.
За ним прислали машину и повезли его, как он думал, в Главк. А привезли — в Совмин, к Дымшицу.
Ну дали ему этот самый текст, где уже стояло десятка два подписей. Куда деваться? Надо подписывать.
И тут он (артист все-таки) — возьми да скажи:
— Нет, я не могу это подписать.
— Как это? Почему? — вскинулся Дымшиц.
— Тут написано: Народный артист СССР… А я народный артист РСФСР…
— А-а, — улыбнулся Дымшиц. И, потрепав его по плечу, успокоил: — Будете… Будете народным СССР… Так что не смущайтесь, подписывайте…
Как была разоблачена английская писательница Кармина Пристиана
В начале 60-х последний живой классик соцреализма Федор Панферов обнародовал статью, в которой среди разного рода банальностей и общих мест (литература должна служить народу, писатели должны изучать жизнь…) промелькнуло и совсем небанальное, по тем временам весьма неожиданное и даже смелое утверждение.
«Наши молодые писатели, — к всеобщему изумлению объявил вдруг Федор Иванович, — непременно должны учиться у таких выдающихся писателей Запада, как Хемингуэй, Ремарк и Кармина Пристиана».
Хемингуэем и Ремарком (особенно Ремарком) у нас тогда все зачитывались. Но у начальства эти писатели были не в чести. Потерянное поколение, знаете ли… А слово «ремаркизм» было и вовсе ругательным. Оно поминалось всякий раз рядом с другим часто употреблявшимся тогда осудительным словосочетанием — «окопная правда». И означало ложный, натуралистический, неприемлемый для советской литературы способ изображения войны со всеми ее ужасами. Советским писателям войну полагалось изображать как Парад Победы.
И вот — пожалуйста! Можно, оказывается… То есть — не то что можно, а нужно, даже необходимо нашим молодым писателям учиться у Ремарка и Хемингуэя.
Немного, правда, путала карты никому не ведомая Кармина Пристиана. О существовании такой писательницы (английской? американской? Или, может быть, австралийской?) никто не слыхал. Но в конце концов чёрт с ней, с этой Карминой! Не в ней было дело. Важно было, что наконец амнистированы Хемингуэй и Ремарк.
Официальный статус Панферова был тогда очень высок, и неожиданное его заявление было воспринято чуть ли не как новая партийная директива. Во всяком случае, возразить ему было не просто. В то же время каким-то образом дезавуировать это легкомысленное, чреватое самыми вредными последствиями заявление классика было необходимо. Присяжные разоблачители той самой «окопной правды» просто не могли оставить его без ответа.
И ответ появился.
Возразить Панферову отважился один из самых рьяных тогдашних цепных псов соцреализма — Александр Львович Дымшиц.
Злые языки присвоили ему титул «председателя еврейской секции Союза Русского народа». Ходила даже эпиграмма, так изображающая тогдашний российский литературный пейзаж:
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.
Там Дымшиц на коротких ножках —
Погрома жаждущий еврей.
На самом деле погрома Александр Львович, конечно, не жаждал. И даже наоборот: людям близким объяснял, что пошел служить «в номера», совсем уже беззастенчиво, до полного бесстыдства заворотив подол, именно потому, что до смерти боится погрома. А внушили ему этот страх венгерские события, во время которых повстанцы вешали на столбах (вниз головой) верных слуг режима, среди которых немало было и евреев. Объясняя это, Александр Львович, как человек хорошо образованный, всякий раз ссылался на знаменитую реплику Гершензона, неосторожно обмолвившегося в «Вехах», что интеллигенты должны быть благодарны царской власти, которая своими штыками ограждает их от гнева народного. Под свое блядство, таким образом, Александр Львович подводил почтенную теоретическую базу.
Вот этот самый Дымшиц и ответил на сомнительный призыв Фёдора Ивановича Панферова.
Как я уже говорил, возражать классику было тогда отчасти даже рискованно. Во всяком случае, дело это было весьма тонкое, требующее известной деликатности.
Но Александр Львович с этой задачей справился.
Он разразился статьёй, в которой сперва бурно поддержал своевременную инициативу Фёдора Ивановича. Да, говорил он, Фёдор Иванович безусловно прав. Наши молодые писатели, конечно же, должны учиться у выдающихся художников Запада. Но Фёдор Иванович наверняка имел при этом в виду, что опыт своих зарубежных учителей они должны усваивать критически, не подражая им бездумно и слепо. С этим маленьким уточнением он готов признать, что у таких замечательных мастеров, как Ремарк и Хемингуэй, и в самом деле есть чему поучиться. Но он, Дымшиц, решительно против того, чтобы наши молодые писатели учились у такой малоизвестной и, в сущности, малоталантливой писательницы, как Кармина Пристиана, творчество которой, к тому же, как это всем известно, отравлено ядами самых вредоносных модернистских влияний. Литературные изделия этой дамы несут на себе отчетливые следы прямого воздействия Кафки, Пруста, Джойса, а в особенности Алена Роб-Грийе, основоположника восхваляемого реакционной критикой Запада так называемого «нового романа»…