Муравьев считал, что нельзя было основываться на планах, утвержденных еще в начале года, еще при царе. Надо, надо было внести поправки! Не внесли… Командующий Юго-Западным фронтом генерал Гутор, которого позднее сменил Корнилов, двинул на Львов — согласно все тому же старому плану — две армии — седьмую и одиннадцатую. Двинул и… ни с места! Тогда — опять же по старому плану — вводится в дело внушительная вспомогателыгая сила: десять дивизии восьмой армии, которая должна была наступать на Калуш и Болехов. После этого вроде сдвинулись с мертвой точки. Прорвали вражескую оборону, захватили семь тысяч пленных и до полусотни орудий, взяли Галич, Станислав, Калуш и вышли на рубеж речки Ломницы. Тут уж пошли в наступление армии других трех фронтов — Северного, Западного и Румынского. Два дня подряд пятая армия на севере и десятая на западе продвигались вперед. Неудержимо наступали части Румынского фронта. Вот тут-то и нужна была личность, равная Бонапарту, чтобы координировать все эти действия фронтов, проследить за неустойчивым настроением войск, быстро и решительно вносить коррнктивы, предугадать встречные замыслы противника, развить и закрепить успех.
Такой личности не нашлось. Претендовавший на эту роль Керенский не оправдал надежд, возлагавшихся на него частью офицерства, в том числе и подполковником Муравьевым.
Началась катастрофа с того, что противник нанос внезапный контрудар на Тарнополь. Одиннадцатая армия не сумела удержать позиций, после чего седьмой и восьмой армиям ничего иного не оставалось, как откатиться. За неполный месяц эти три армии потеряли почти шестьдесят тысяч. Сорок тысяч потеряла на Западном фронте одна только десятая армия, а оставшиеся в живых наотрез отказались ходить в атаки и вернулись в окопы, откуда их уже никакими речами и лозунгами выманить не удавалось. Так же поступила и пятая армия на Северном фронте. Противник начал усиленно контратаковать и на Румынском. Против фактов не попрешь, и Керенскому ничего другого не оставалось, как отменить наступление.
Подбили бабки: потери более ста пятидесяти тысяч, Галиция оставлена.
Свалить все беды на большевиков не удалось, более того — их влияние в войсках теперь резко возросло. И не было ничего удивительного в том, что двенадцать полков столичного гарнизона в том же июне вышли на улицы Потрограда под большевистским лозунгом: «Долой войну!» Не прошло и месяца, как начались волнения в первом пулеметном полку, также расквартированном в самой столице, Муравьев слыхал, будто большевики — публика трезвая и рассудительная — пытались удержать пулеметчиков от выступления. Но, видать, там взяли верх анархисты — горячие головы, мастера подливать масла в огонь. И нетерпеливые пулеметчики все же выступили, а за ними — ряд других полков… За солдатами двинулись на улицы толпы рабочих.
Что тут оставалось делать большевикам, считавшим выступление преждевременным? Могли бы умыть руки. Однако они мужественно примкнули к демонстрантам и терпеливо уговаривали не применять оружия, не давать властям повода для расправы. Большевиков поддержали гренадеры — пулеметчикам пришлось поостыть, угомонились и прочив полки. А через день почти весь гарнизон — безоружный! — опять вышел на улицы, и снова с ними несметные тьмы рабочих. Вот тут-то и проявил себя Александр Федорович…
Когда надо было командовать, он болтовней занимался — «главноуговаривающий»! Как в басне Крылова «Кот и Повар»: тратил речи по-пустому там, где надо было «власть употребить». И вот доболтался… Но ведь что характерно: когда привыкшие болтать в конце концов бывают вынуждены действовать, то с непривычки к действиям они тотчас же перегибают палку. Именно это и случилось с Керенским: не придумал ничего лучше, как руками генерала Половцова расстрелять мирную демонстрацию! Притом, что Петроград не забыл еще девятое января и Николая Кровавого… Страх — плохой советчик и для военного и для политика, Какой истерический фальцет слышался в зове вчерашнего «вождя революционном армии», когда он «категорически настаивал», чтобы министр-председатель Львов дал санкцию на разоружение «бунтующих частей» и предание суду «всех зачинщиков и мятежников»! Разве так формулируются приказы и требования в столь решительные моменты?
И все-таки Муравьеву тогда еще казалось, что Керенский способен избегнуть дальнейших крайностей, что он сумеет вернуться к провозглашенным эсерами демократическим лозунгам и в то же время проявить необходимую твердость и выдержку. Поэтому не хотелось расставаться с надеждой, хотелось еще найти оправдание обрушившимся на армию репрессиям. Михаилу Артемьевичу даже казалось порой, что, будь он сам на месте Александра Федоровича, не исключено, что тоже издал бы приказ о запрещении в армии митингов и собраний, о применении оружия против нарушающих сей запрет отдельных военнослужащих и даже целых частей. Не исключено, что — подобно Керенскому — он поторопился бы отправить на позиции более ста ненадежных полков, убивая одним дуплетом сразу двух зайцев: тыл освобождался от вооруженной крамольной силы, а фронт получал почти миллионное пополнение. Да, в ту пору Муравьев еще не терял надежды на Керенского. Человеку свойственно цепляться за надежду и не торопить расставание с ней…
Расставание с надеждой на Керенского было между тем неминуемо и наступило в августе, когда все взоры обратились к Лавру Георгиевичу Корнилову. Во-первых, не какой-нибудь штафирка, а боевой генерал. Даже имя-отчество — в отличие от такового у Керенского — не только не вызывало непристойных ассоциаций со свергнутой императрицей Александрой Федоровной, но, напротив, ассоциировалось с такими любезными офицерскому уху понятиями, как лавровый венец и Георгиевский крест.
Короче говоря, вся надежда была теперь на Корнилова: он один сумеет избавить войска от большевистской скверны и довести войну до победяого конца. И если вчера еще — стыдно вспомнить! — таскали на руках «вождя революционной армии» Керенского, то сегодня тем же привычным манером носили на руках Корнилова, которого сам Родзянко приветствовал как «верховного вождя русской армии». Верные Корнилову кавалерийские полки, юнкерские училища и — возлюбленные чада подполковника Муравьева — ударные батальоны приводились в состояние повышенной боевой готовности. И душа Михаила Артемьевича впервые дрогнула…
Одно лишь смущало его, порождая недобрые предчувствия и сомнения, Это действия Корнилова под Ригой. Снять с Рижского направления сразу несколько полков? Открыть противнику путь на столицу России?! Ну да, он понимал, что здесь был определенный расчет: обречь на гибель преданные большевикам русские и латышские части, руками противника военного уничтожить противника политического. Но не слишком ли дорогою ценой? Не слишком ли вообще все это? Душа русского офицера Муравьева дрогнула вторично…
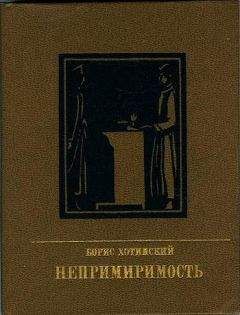
![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)



