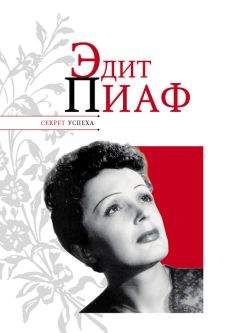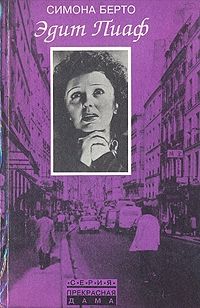Это было ужасно. Не знаю, может быть, это продолжалось секунд двадцать… очень долго. И молчание казалось странным, невыносимым, от него сжималось горло. И вдруг раздались аплодисменты. Шквал, град, ливень… Забившись в угол, я плакала от счастья, не замечая слез.
Я услышала, как Лепле мне сказал:
— Порядок. Она их покорила…
Он забыл и думать о том, чтобы послать меня в туалет. Публика была поражена, потрясена. Люди были сражены этой девчонкой, которая пела им о нищете, пела о правде. И слова говорили об этом слабее, чем голос.
Это был самый трудный момент за всю ее карьеру, но до самой смерти она считала его самым прекрасным. Она опьянела от счастья.
Когда выступление окончилось, ее пригласили за столик Жана Мермоза, который, обращаясь к ней, называл ее «мадемуазель». Она не могла опомниться. Она, которую ничто не смущало, у которой на все хватало смелости, потеряла дар речи.
Рядом с Жаном Мермозом сидели Морис Шевалье, Ивонна Балле и другие известные люди, кто точно, я не знаю.
Говорят, что Морис Шевалье якобы воскликнул: «Маленькая, а сколько силы!» Это часть легенды. На самом деле он уже слышал Эдит. Он приходил как-то с Ивонной на одну из ее репетиций и сказал что-то вроде: «Попробуй ее, Луи. Это может понравиться. Это сама жизнь!»
Он был прав. Ни у кого не было такого голоса. Эдит не делала усилий, чтобы быть «достоверной», она родилась на улице, она оттуда пришла. Никогда еще на сцену не выходила такая маленькая, худенькая, плохо одетая женщина. Она пела без жестов. Почти все известные певицы были крупными женщинами: Аннет Лажон, Дамия, Фреэль. Только выйдя на сцену, они уже заполняли ее.
Эдит понравилась, потому что удивила, публика была в нокауте. Но она еще не была той, кем стала потом. Понадобились годы работы, чтобы стать единственной.
Когда мы вышли, было уже светло. Великолепное утро, утро славы! Эдит в черном платье, невзрачном при дневном свете, шла как королева. Она взяла меня за руку.
— Пойдем, Момона. Сейчас мне нужна улица. Я ей всем обязана. Я должна поблагодарить ее, мы пойдем петь. Мне это необходимо.
Она запела, но не как всегда. Это было как псалом. Она благодарила небо. Эдит начала другую жизнь.
Она мне говорила:
— Не может быть. Вчера еще я знала этих людей только по газетам, а сегодня я провела с ними всю ночь. Мы сидели за одним столом. Не могу прийти в себя. Они были со мной удивительно добры. Ведь они могли бы просто угостить меня бокалом вина. Какое у них шампанское! Я такого никогда не пила. Я тебя таким как-нибудь угощу. Они для меня собрали деньги. Я бы никогда не осмелилась. Мермоз дал свою шляпу. Ах, до чего он красив, Момона… Вот о ком, наверное, мечтает не одна женщина. Я сама бы…
Она отпустила мою руку и вздохнула:
— Пока это еще не для меня… Но все придет. Слышишь? Для меня любовь значит очень много. У меня будут все, кого захочу… и много денег тоже.
В нашей комнате она продолжала говорить о Мермозе. Это длилось дни напролет. Она вдруг останавливалась, и я уже знала, что она скажет:
— Посмотри на меня, Момона. Ведь я видела Жана Мермоза. Я сидела за его столиком, пила с ним шампанское. И знаешь, что он мне сказал?
— Да. «Мадемуазель, позвольте мне предложить вам бокал…».
Я была хорошей слушательницей, мне было только семнадцать лет — и я погружалась в мечты вместе с ней.
Нужно постараться нас понять. Чем мы были? Ничем. Еще вчера до смерти боялись полицейских: они могли нас ударить. Наши мужчины были подонками — они тоже могли нас бить, сколько им хотелось. Родных практически не было. Если бы мы заболели, мы подохли бы в каком-нибудь углу или в больнице. Нашим семейным склепом стал бы морг или общая могила на кладбище в Пантене. С нами могло случиться все что угодно. Наш удел был принимать все удары. Мы были не настолько глупы, чтобы этого не сознавать.
И вдруг все переменилось. Это оказалось больше, чем мечта: мечтая, всегда знаешь, что рассказываешь себе сказки, чтобы продержаться. Это было правдой.
Эдит разговаривала с Мермозом и другими, пела для них, пила с ними шампанское. Еще вчера на улице никто бы из них на нас не обернулся. Перемена произошла слишком внезапно.
Эдит не могла остановиться:
— Мермоз не только прекрасен. Как он хорошо говорит! Я могла бы слушать его часами. Морис — большой актер, но рядом с Мермозом он ничто. Мермоз заслоняет его.
Таких мужчин, как Морис, мы видели в Менильмонтане и в Бельвиле. Как и я, он поет, ну и что? А такой, как Мермоз, в небе Франции только один.
Он взял ее за руку! А какие у него чудесные зубы! Он положил для нее в свою шляпу тысячу франков! Он подарил ей цветы, как и другим женщинам за столом!
— Никогда еще ни один мужчина не дарил мне цветов…
И так без конца. Фреэль и другие издевались над ней. Называли ее «мадам Мермоз», «принцесса Пиаф». Эдит не обращала внимания и все больше приукрашивала свою историю. Она вообще имела склонность преувеличивать. Чем больше проходило времени, тем больше все разрасталось: она станет знаменитостью, поедет в Америку… будет отказываться от контрактов…
Фреэль окатила ее холодной водой.
— Дочь моя, успокойся. Дед Мороз приходит только раз в году, и то не ко всем. Пока не станут писать песен специально для тебя, ты ничто. Твой репертуар — набор знакомых куплетов. Стыдись.
Она говорила не от доброго сердца. Но нам это сослужило хорошую службу. Все, что касалось мастерства пения, Эдит схватывала на лету и усваивала сразу, в порыве вдохновения. Я же смотрела со стороны, и у меня было время поразмыслить. Я прислушивалась ко всем и давала ей советы. Мне казалось, что у меня больше вкуса, чем у нее. Так однажды я повела Эдит в казино «Сен-Мартэн», там был один аккордеонист, Фредо Гардони, ужасно толстый. Мы ему объяснили, что нам нужны песни, и он нас познакомил с издателями на улице Сен-Дени и в Маленьком Пассаже.
Мы стали туда ходить подбирать песни для Эдит. Это было нелегко. Издателям имя Эдит ничего не говорило. Они не хотели рисковать, доверив ей исполнение новой песни. Приходилось брать старье. Для нас у них никогда ничего не было. Эдит рвала и метала. Папа Лепле ее утешал:
— На что ты жалуешься? Я тебя пригласил на одну неделю, а ты уже поешь столько времени!.. Не огорчайся, придет срок, и многие из них станут говорить, что, если бы не они, не их вера в тебя, ты бы никогда не прославилась. Потерпи.
Но она никогда не отличалась терпением. У нас вошло в привычку болтаться у издателей. Мы забивались куда-нибудь в угол и слушали тех, у кого были имена и кто проигрывал на фортепиано, напевал новые песни, которые им предлагали.
Эдит говорила мне: