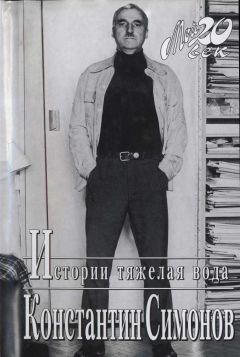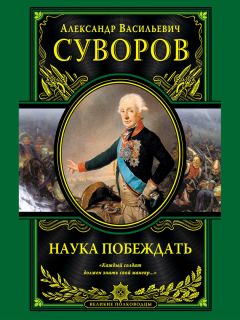Это можно допустить по нескольким причинам сразу.
Последнее полугодие своей жизни, в частности в связи с так называемым «Мингрельским делом», Сталин заметно отодвинул Берию от себя, хотя и сделал это, видимо, непоследовательно, не до конца, может быть, преувеличивая в тот момент свои возможности, часть которых была уже блокирована Берией. В этой ситуации Берия, конечно, был заинтересован в скорейшем конце Сталина.
Второе основание для таких размышлений связано с тем, что на протяжении рада лет все-таки именно Берия больше, чем кто-либо другой, способен был проникнуть к Сталину не только по его воле, но и, очевидно, помимо ее.
Третье основание. Все то, что мы узнали о Берии, выяснившаяся в июне пятьдесят третьего года его попытка захватить власть в свои руки, подсказывают и такую возможность, что первым шагом к этому могло быть и устранение Сталина — или прямое устранение, или под видом прихода ему на помощь.
Все эти допущения — результат многолетних размышлений, не столько над самими этими тайнами, в гораздо большей степени вообще над тем коротким отрезком нашей истории.
А тогда, в марте пятьдесят третьего года, как свидетельствуют мои записи, все это еще не приходило мне в голову.
«Последний день заседания XIX съезда партии. Уже объявлены результаты выборов в ЦК и в ревизионную комиссию, и после этого Ворошилов снова предоставляет слово одному за другим нескольким иностранным делегатам, приветствующим съезд. После нескольких дней отсутствия Сталин в этот последний день с самого начала заседания сидит в президиуме. Все в зале напряженно ждут того, о чем уже говорили между собою и вчера, и сегодня перед началом заседаний, — будет ли выступать Сталин? Если будет выступать, то как и по какому вопросу? Может быть, он закроет съезд?
Между тем заседание идет своим ходом, и оттого, что оно все продолжается и продолжается, возникают сомнения: а вдруг Сталин все-таки так и не выступит? Ворошилов предоставляет слово Копленигу; потом, когда тот, под аплодисменты сойдя с трибуны, садится на свое место, Ворошилов выдерживает небольшую паузу и говорит: «Приветствия делегаций коммунистических братских партий закончены». И уже без паузы объявляет: «Слово предоставляется товарищу Сталину».
Зал поднимается и рукоплещет. Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре. Кладет перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шел к трибуне, и начинает говорить — спокойно и неторопливо. Также спокойно и неторопливо он пережидает аплодисменты, которыми зал встречает каждый абзац его речи. В одном месте зал прерывает его речь так, что если продолжить ее с того слова, на котором она была прервана аплодисментами, то форма одного из строго построенных абзацев речи будет нарушена. Сталин останавливается, дожидается конца аплодисментов и начинает снова не с того места, с какого его прервали аплодисменты, а выше, с первого слова той фразы, которая кончается словами о знамени: «Больше некому его поднять».
В самом конце своей речи Сталин впервые чуть-чуть повышает голос, говоря: «Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между народами!» После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой поджигателей войны!» Он произносит ее не так, как произнесли бы, наверное, другие ораторы — повысив голос на этой последней фразе. Наоборот, на этой фразе он понижает голос и произносит ее тихо и презрительно, сделав при этом левой рукой такой жест спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает куда-то в сторону этих поджигателей войны, о которых он вспомнил, потом поворачивается и, медленно поднявшись по ступенькам, возвращается на свое место.
После этого мне довелось видеть Сталина еще два раза: на обеде, который давал Центральный Комитет членам иностранных делегаций коммунистических братских партий, и на последнем пленуме Центрального Комитета, в работе которого принимал участие Сталин».
На этом месте оторвусь от записи для того, чтобы и объяснить, и рассказать некоторые обстоятельства, связанные лично для меня с ее последним абзацем.
На XIX съезде партии я был в числе гостей с билетом на все заседания, за исключением, разумеется, того закрытого, на котором избирался новый состав ЦК. Вечером этого дня мне позвонил домой писатель Бабаевский и абсолютно неожиданно для меня поздравил меня с тем, что я выбран кандидатом в члены ЦК. Если бы мне позвонил кто-то другой, я, может быть, вообще не поверил бы в это, счел за розыгрыш и обругал бы говорившего, но Бабаевский был делегатом съезда, человеком, с которым мы были весьма далеки, и у меня не было оснований не поверить ему. Я поблагодарил его за поздравление, позвонил одному из своих знакомых делегатов съезда и проверил еще и у него, так ли это в действительности, и, убедившись, что так, подумал, что, очевидно, оказался в числе кандидатов в члены ЦК как главный редактор «Литературной газеты». Догадка была верной, так оно впоследствии и оказалось. Одновременно со мной, тоже впервые в своей жизни, были выбраны в ревизионную комиссию ЦК Твардовский — в то время редактор «Нового мира» и Сурков — в то время редактор «Огонька».
Мне почему-то кажется, что во всех трех случаях это была инициатива Сталина, хотя, может быть, я и ошибаюсь.
На обеде, который давал ЦК в честь делегаций коммунистических партий и который происходил чуть ли не в тот же вечер, когда закрылся съезд, я оказался сидящим рядом с Георгием Константиновичем Жуковым, выбранным так же, как и я, в кандидаты в члены ЦК. Тут уж не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина — никаких иных причин в то время быть не могло. Многих эта перемена в судьбе Жукова обрадовала и в то же время удивила. Меня удивила, наверное, меньше, чем других, потому что я помнил то, что говорил еще два года назад Сталин о Жукове в связи с обсуждением романа Казакевича «Весна на Одере». Теперь, во время этого ужина, сидя рядом с Жуковым, я не только вспомнил тот разговор о нем, который происходил на Политбюро, но и счел себя вправе рассказать о нем Георгию Константиновичу. Я чувствовал сквозь не изменявшую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью. Тем сильнее, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу, ни словом коснуться этой, несомненно больше всего волновавшей его, темы за те несколько часов, что мы просидели с ним рядом.