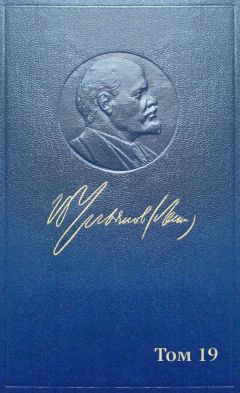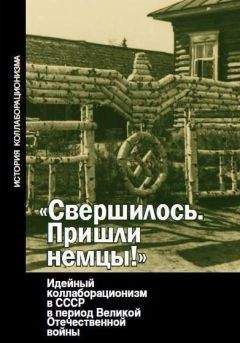Что касается перемены настроения у Л.H., то, как пишет Александра Львовна, на него, видимо, повлияли присланные Гольденвейзером выписки из дневника Варвары Михайловны, описывавшей одну из своих откровенных бесед с Софьей Андреевной.
Передавала Софья Андреевна, что М. С. Сухотин назвал ее взбалмошной.
— Какая же я взбалмошная?! — удивлялась она».
Из письма В. Г. Черткова к Л. Н. от 14 сентября.
«…Я часто думаю, как удивительно сбылось одно ваше страстное желание, которое вам было невозможно в себе побороть, но сбылось незаметно для вас и в совершенно непредвиденной форме. Вы столько лет всем существом вашим желали иметь возможность засвидетельствовать своими поступками, своей жизнью то, во что вы верите и что так горячо словесно исповедуете. И вам казалось, что единственная оставшаяся для вас форма такого засвидетельствования вашей веры — это тюрьма и вообще преследования и страдания со стороны обличаемой вами «власти мира сего». Ради этого вы даже иногда подвергались искушению нарочно особенно резко обличать, чтобы невозможно стало вас оставлять на воле. Но эта дверь для вас так и осталась закрытой. А между тем, незаметно для самих себя вы оказались в другом, совершенно неожиданном для вас положении, в котором вы имеете возможность свидетельствовать гораздо ярче и глубже, чем если бы были посажены в тюрьму. Для того, чтобы вызвать проявление того поведения и отношения к человеку брату, которые вытекают из исповедуемого вами жизнепонимания, — и притом в обстоятельствах таких, труднее которых ничего не может быть, — ничего нельзя было придумать лучше, целесообразнее, чем именно то семейное положение, в котором вы сейчас находитесь. Крееты, костры, казни, внешние мучения — все это было, и в этой области ничего нового быть не может… К тому же все это происходит на подмостках, на виду у всех, при умиленном преклонении друзей и единомышленников. А ваша задача задана вам в обстановке, не только не торжественной и прославляемой, а, напротив, в обстановке, которую большинство людей считают позорной для вас, вашей ошибкой, несостоятельностью. И как над Христом глумились, дразня его словами: «Слезай с креста, если ты действительно сын Божий», — так глумятся и над вами теперь, приписывая вашей вине то положение, в котором вы находитесь. Но положение ваше еще совсем особенно трудное и «засвидетельствование» ваше имеет совсем особенное значение еще и с другой стороны. Страдать и умирать просто за верность своей вере — одно дело. Это просто и ясно. Но страдать и умирать за свою веру и одновременно с этим вдобавок не знать вперед в точности, что делать, как себя вести, а все время вырабатывать, сверх всего остального, на деле правильное отношение между любовью к Богу и любовью к ближнему, т. е., проявляя любовь к ближнему, вместе с тем не нарушать любви к Богу, т. е. по слабости или ради собственного внутреннего удовлетворения не давать себя вовлекать в то, во что не следует, — это совсем другое дело, гораздо более трудное. И вот это‑то дело вам и задано. И помогай вам Бог продолжать его осуществлять все лучше и лучше. А то, что вы уже сделали в этом направлении, послужило нам всем, понимающим вас друзьям вашим, уроком и подтверждением вашего жизнепонимания — такими, каких ни при каких других обстоятельствах вы нам дать не могли бы».
Письмо Л. Н. к В. Г. Черткову от 16сентября.
«Пишу вам, милый друг, чтоб сказать, что я все по — прежнему в среднем и телесно, и духовно состоянии. Стараюсь смотреть на мои тяжелые, скорее трудные отношения к Софье Андреевне, как на испытание нужное мне, и которое от меня зависит обратить себе в благо, но редко достигаю этого. Одно скажу, что в последнее время «не мозгами, а боками», как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением — деланием зла за зло, и противлением неуступания в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед своей совестью и Богом. Буду пытаться.
Я хорошо отдохнул эти четыре дня и обдумал свой образ действий при возвращении, которое уж не хочу и не могу более откладывать. Должно быть приедем около двадцатого, скорее после, чем прежде.
Я ничего путного здесь не делал. Вчера и нынче был занят письмом к Гроту, брату философа, для помещения в его сборнике о Ник. Гроте. Письмо неважное, о различии религиозного и так называемого философского понимания жизни. У Грота никакого не было этого религиозного понимания.
Уж я давно вам все пишу, что мне хочется писать, и я все ничего не пишу, что лучше уж не писать этого и примириться с этим бездействием. Но не могу, все‑таки хочется.
Мне тоже очень хочется видеться с вами и я, хотя и не знаю как, но думаю устроить это, когда приеду. И, разумеется, объявив об этом тем, кому это неприятно.
Здесь мне очень хорошо, но все‑таки надо ехать, и Саше хочется. Она все, несмотря на свою толщину, нездорова…
Ну, прощайте пока, целую вас, Галю, Димочку и всех друзей. Л. T.».
Письмо Л. Н к В. Г. Черткову от 17 сентября.
«Получил нынче утром ваши письма, милый друг, и пробежал их перед прогулкой, теперь же вечером перечел все, кроме вашего, и берусь за ваше и, перечитывая, хочу тут же по пунктам отвечать:
(Первые четыре пункта — деловые поручения по поводу английских писем и пр.)
5) То, что вы пишете о том образе действий, которого я должен держаться в отношениях с Софьей Андреевной, совершенно сходится с тем, к чему я сам пришел, как вы это увидите из вчера написанного мною вам письма, и с тем, что мне говорят все близкие люди, любящие меня. Но до всего надо дойти самому, я дошел в сознании, но как‑то удастся исполнить. Хотя и не люблю загадывать, но думаю 22–го приехать в Ясную.
То же, 6–е, что вы пишете в конце письма о той задаче, которая мне задана, показывает то, что вы меня любите истинной любовью, переносясь в мое положение, и слишком любите, приписывая мне то, от чего я еще очень далек. Но я благодарен, потому что такая дружба, как ваша, — такая хорошая, чистая радость.
До отъезда еще четыре дня, может быть, получу еще от вас весточку. Прощайте, до свидания. Л. Т.».
Из письма Александры Львовны к Б. от 17 сентября.
«О нас что же вам сообщить? Живем тихо, мирно, а как подумаешь о том, что ожидает нас, и сердце защемит. Но теперь за это время есть перемена, и перемена, по — моему, очень важная в самом Л. Н. Он почувствовал и сам и отчасти под влиянием писем добрых друзей, что нельзя дальше в ущерб своей совести и делу подставлять спину и этим самым, как ни странно это сказать, не умиротворять и вызывать любовные чувства, как бы это и должно бы быть, а, наоборот, разжигать, усиливать ненависть и злые дела.