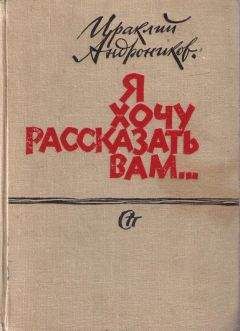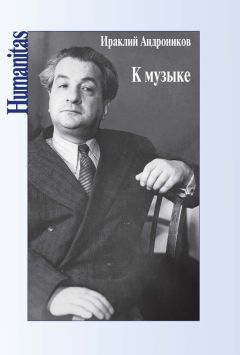Разговоры, в которых, по выражению Лермонтова, «значение звуков заменяет и дополняет значение слов» и которые без интонаций, по его мнению, «не имеют смысла», Гоголю удается передать с таким искусством именно потому, что, в отличие от Лермонтова, он делает упор на разговорность, описывает, а еще более «изображает» своих героев, пародийно сгущая их речи со всеми их особыми выражениями, словечками, недомолвками и даже передавая самую неспособность их вполне выразиться при помощи слов: тут и речь, от которой весьма веет книжностью, и отдающая канцелярскими оборотами, и построенная вся на преувеличениях в превосходной степени, и засоренная множеством слов, ничего ровно не значащих, и длинные периоды, искусно скрывающие отсутствие мысли, и речь отрывистая, состоящая из отдельных, не связанных между собой, предложений. В соответствии с замыслом Гоголя речи эти вызывают комический эффект и разоблачают ничтожество владетелей крепостных душ и чиновников, крупных, и менее крупных, и калибра совсем уже мелкого.
Но вот в «Шипели» — другой предмет и другая цель. И Гоголь показывает, как бедный Акакий Акакиевич изъясняется большею частью «предлогами, наречиями, и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения»: «Так этак-то…», «вот какое уж, точно, никак неожиданное, того…» Но, доведя здесь до крайности способ изображать в речи самое характерное, показывать не только что говорит персонаж, но еще более как он говорит это, Гоголь гениально представил забитое, бессловесное существо. Можно предвидеть возражение, что, дескать, прямая речь — диалог, монолог — всегда разговорна, а сказ ведется тоже от чьего-то лица, и при чем тут повествовательная проза?
Но у того же Гоголя повествование, которое ведется не от лица пасечника Рудого Панька, но от лица самого автора, все равно сохраняет все богатство и разнообразие разговорных оборотов и интонаций. Можно привести десятки, сотни примеров того, с каким блеском использованы им приемы устного рассказчика в стремительных по темпу, одним дыханием сказанных и в то же время подробнейших, обстоятельнейших описаниях-отступлениях.
Вспомним то место из «Мертвых душ», где почтмейстер высказывает свою удивительную догадку о том, кто таков Чичиков, неожиданно вскрикнув: «…знаете ли, господа, кто это? Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время: а кто? — Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин! А когда все в один голос спросили: кто таков капитан Копейкин? — почтмейстер сказал: так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?
Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.
„Капитан Копейкин“, — сказал почтмейстер, открывши свою табакерку… „Капитан Копейкин“, — повторил он, уже понюхавши табаку…» и т. д.
Все это вовсе не значит, что речевая характеристика должна обязательно строиться на преувеличении речевых недостатков и что она может быть только разоблачительной, а отношение автора к персонажу, как у Гоголя, только ироническим и никаким другим. В прозе Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Горького, Бунина, Алексея Толстого, Шолохова, Катаева, Казакевича, Антонова своей, индивидуальной, речью характеризованы решительно все персонажи. В «Войне и мире» своя особая речь и у Кутузова, и у Багратиона, и у Каратаева, и у Пьера Безухова. Даже члены одной семьи — Наташа, Николай и Петя Ростовы — и те, сохраняя общий семейный стиль в разговоре, в то же время говорят каждый по-своему. Вспоминая роман, мы представляем себе его не только в зримых образах. Мы слышим голос старого князя Болконского — когда он начинает возражать раздраженно и крикливо, Ахросимову с ее решительным и громким разговором. У капитана Тушина «тон задушевный», и как хорошо выражает он его деликатность! А когда Андрей Болконский слышит сначала его голос в сарае — слабый, тонкий, нерешительный, а потом наблюдает его в бою, как поражает читателя — по контрасту — спокойное мужество капитана Тушина, самоотверженное исполнение им своего долга. Что же касается Денисова, то его грассирование Толстой воспроизводит на протяжении всего романа.
Итак, каждый наделен собственной речевой характеристикой. И все вместе они говорят иначе, чем говорит в романе сам Лев Толстой. Ибо диалог, использующий словарь и синтаксическую структуру разговорной речи, резко отличается от словаря и структуры повествовательной прозы Толстого. При всей ее свободе, сохраняющей стиль устной речи Толстого и в длинных периодах, и в накоплениях однотипных фраз («как ни старались люди… как ни счищали… как ни дымили… как ни обрезывали…» и т. п. в «Воскресении»), она в то же время гораздо более, чем речь персонажей, обусловлена нормами литературного языка.
Если автор умеет слышать живую речь и воспроизводить ее в книге, сообщая каждому лицу только ему присущие характерные особенности, его герой своей речью обогащает язык литературы. Наоборот, герой вымышленный, не увиденный в жизни, а предположенный, писанный без всякой «натуры», неизбежно наделяется авторской речью, причем у такого автора все герои говорят одинаково, несмотря на то, что действуют в разных книгах, эпохах и городах.
Мощное наступление разговорной речи на стих в XX веке произошло в поэзии Маяковского. Ныне Твардовский на тех разговорных интонациях, которые до сих пор господствовали, пожалуй, в сказках, строит в своих поэмах и повествовательный стих и диалог, причем наделяет героев такими индивидуальными голосами, что Моргунка и Теркина не спутаешь никак, хотя оба смоленские и одного социального происхождения.
В драматическом произведении речь персонажа становится главным средством раскрытия характера, ибо еще более, чем в поступках, характер обнаруживается в диалоге. В ином случае пришлось бы сделать вывод, что в драмах со сложным детективным сюжетом характеры раскрываются полнее, чем, скажем, в пьесах Чехова или Горького. По счастью, опыт театра доказывает, что это не так. Развитие действия в диалоге даже и при отсутствии внешних происшествий способно вызвать куда больший интерес, чем сцены с переодеваниями и преследованиями.
Правда, для этого каждый персонаж должен быть наделен собственной речью, а не теми нейтральными репликами, которые произносятся лишь в интересах развития сюжета и писаны без уважения к труду актера.
В спектакле «На дне» действия как цепи развивающихся событий нет. Люди живут в ночлежке, приходят и уходят, сегодня, как вчера, случайные сожители по койке. Характеры выявляются в деловых репликах, в задушевных разговорах — в сложных отношениях этого коллектива, объединенного общей социальной судьбой. Все действие пьесы заключено в точной, образной, глубоко индивидуализированной речи каждого персонажа. Вспомним, как читает великий Качалов беседу Сатина и Барона! Два разных человека, два характера, два мира, две философии. «Событие не обязательно должно произойти в сюжете. Оно может произойти и в диалоге». Эти слова, слышанные мною в 1935 году от самого Алексея Максимовича, сказаны были по поводу устного рассказа, построенного на диалоге, но выражали они драматургические принципы Горького. Вот почему с напряжением смотрятся горьковские пьесы, в которых развития внешнего сюжета совсем почти нет. Зато в диалоге свершаются такие конфликты, которые в течение вечера разделяют действующих лиц на два лагеря, два мира — тружеников и собственников. Фраза: